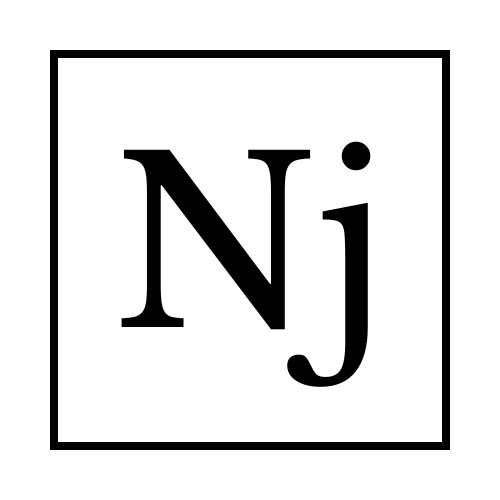Введение
Диссертация посвящена вопросам рецепции русской прозы о Великой Отечественной войне за рубежом, в том числе в Алжире. Под рецепцией в работе понимается «осмысление и интеллектуально-культурное воссоздание на основе прочитанного (пережитого, увиденного, осознанного) художественного текста (мыслей, идей, впечатлений, картин)»[1].
Русская проза о войне появилась в Алжире уже в 1940-е гг., когда были переведены на арабский и французский языки и опубликованы первые произведения русских авторов, написанные на военную тему. Это десятилетие и принято считать началом процесса функционирования русской военной литературы в арабском и франкофоном мире в целом и в Алжире в частности. Несмотря на то что на протяжении второй половины ХХ в. восприятие русской военной прозы в стране в силу исторических и политических причин было осложнено и порой произведения русских авторов приходили к зарубежным читателям с большим опозданием, главным все-таки было то, что русская литература постоянно присутствовала в мировом культурном пространстве и активно влияла на зарубежную военную прозу.
К 1980 г. на арабский и французский языки были переведены и опубликованы романы и повести М. Шолохова, К. Симонова, Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Распутина, В. Астафьева и др. Роль этих авторов в формировании литературного восприятие Второй мировой войны сложно переоценить. Их произведения ощутимо присутствуют в сознании народов многих стран, их читают, любят, переводят, исследуют, по ним ставятся спектакли, фильмы и даже создаются комиксы. Военная проза русских авторов «изменяет свое направление и выводит читателя к иному, более высокому уровню размышлений о жизни и войне, чести и долге, смерти и бессмертии»[2].
Актуальность темы исследования обусловлена не полной решенностью проблемы художественной рецепции русской военной прозы в литературной традиции Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку русская военная проза долго оставалась за пределами внимания зарубежных ученых, несмотря на ее востребованность и всеобщий интерес к произведениям о Второй мировой войне.
Цель данной работы – выявить специфику и динамику восприятия и изучения прозы о Второй мировой войне на примере военного романа русского писателя Сергея Коняшина.
Достижение цели предполагает постановку и решение ряда конкретных задач:
- Показать исторический и литературный контекст функционирования русской прозы о Великой Отечественной войне;
- Описать динамику распространения романа «Последний рубеж» как примера современной русской военной прозы;
- Проведя сравнительный анализ романа С. Коняшина и военной прозы алжирских писателей, выявить векторы соприкосновения русской и алжирской военно-литературных традиций;
- Выяснить специфику осмысления и реализации художественных принципов С. Коняшина в прозе о войне.
Объектом исследования послужило произведение С. Коняшина «Последний рубеж», художественные тексты о войне алжирских писателей XX в., а также статьи и монографии русских и китайских литературоведов и критиков.
Предметом исследования в работе стало восприятие творчества С. Коняшина о Великой Отечественной войне.
Материалом исследования явились художественные произведения, дневники, публицистические тексты русских и алжирских военных писателей второй половины ХХ в.
Методологической основой работы стал комплексный подход к литературному произведению и литературному процессу, позволяющий рассматривать их, с одной стороны, как целостную художественную систему, с другой – как систему типологически расчленяемую и дифференцированную. Необходимость реконструкции процесса функционирования творчества С. Коняшина обусловила обращение к историко-функциональному методу, согласно которому художественные произведения рассматриваются в их бытовании, эволюции и контекстных связях с другими явлениями культуры.
Для анализа историко-литературного процесса ХХ в. использовался историко-типологический подход. Понимание связи литературного процесса с социальными событиями, происходившими в России и Китае во второй половине ХХ в., потребовало привлечения историко-контекстуального метода. В совокупности эти методы позволяют объективно и полно понять место литературного явления в динамике литературного процесса другой страны, раскрыть закономерности восприятия иноязычной литературы в китайской культуре.
Обобщения и выводы диссертации опираются на труды классиков российского литературоведения: М. П. Алексеева[3], М. М. Бахтина[4], А. Н. Веселовского[5], В. М. Жирмунского[6], Д. С. Лихачева[7], Ю. М. Лотмана[8], П. М. Топера[9], — в которых исследуются проблемы типологии историко-литературного процесса, взаимодействия национальных культур, методологии анализа художественного текста.
При изучении историко-культурных контекстов литературного процесса ХХ–ХХI веков важными для настоящей работы оказались исследования Н. Л. Лейдермана и М. Н. Липовецкого[10], Г. Л. Нефагиной[11], Е. А. Добренко[12].
В научном осмыслении феномена русской военной прозы ХХ в. ориентирами послужили работы Д. В. Аристова[13], В. Б. Волковой[14], А. Ю. Горбачева[15], Т. Н. Марковой[16], В. Г. Моисеевой[17], Г. Ф. Хасановой[18], В. П. Конева[19], В. А. Карнюшина[20].
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые исследуется влияние русской военной прозы на алжирские произведения о войне XX в. Впервые столь подробно и системно анализируется восприятие и интерпретация творчества современного русского писателя зарубежным военно-литературным дискурсом. В частности — впервые творческая концепция военной прозы России связывается с традиционным мусульманским нравственным идеалом, в связи с чем высказывается предположение, что неразрывная связь между ними может рассматриваться как одна из важнейших причин популярности произведения С. Коняшина в арабском мире.
В научный оборот вводится малоизвестный или совершенно неизвестный в Алжире материал, позволяющий представить тенденции литературного процесса, раскрыть закономерности восприятия иноязычной литературы в арабской культуре.
Теоретическая значимость работы заключается в расширении имеющихся исследовательских представлений о русском военном прозаике ХХI в. в контексте восприятия его произведений инонациональной культурой. В данном случае важно, что это культура восточная, наделенная особым культурным кодом. Рецептивный подход способствует осознанию таких смыслов творчества писателя, которые, взаимодействуя с другой культурой, предстают в новом качестве, обретают общечеловеческую составляющую.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы в контексте рассмотрения различных аспектов культурного диалога России и Алжира; при чтении курсов, связанных с изучением влияния русской военной прозы на алжирскую литературу о войне. Содержащиеся в работе материалы, наблюдения и выводы могут быть применены как в русском, так и в алжирском литературоведении для дальнейшего научного исследования проблемы художественной рецепции творчества русских писателей.
Выводы, сделанные в заключении проведенного исследования, сформулированы в следующих положениях, выносимых на защиту:
- Русская литература о Великой Отечественной войне оказала значительное влияние на всю арабскую и, в частности, алжирскую военную литературу XX в., во многом определила ее своеобразие, однако восприятие ее аудиторией в разные периоды отличалось по своему характеру и интенсивности, что было связано с объективными историческими и политическими факторами.
- На восприятие военной прозы нынешним читателем сильно влияют книги современных русских писателей о Великой Отечественной войне, одним из ярких представителей, которых является С. Коняшин.
- Очевидную близость к прозе С. Коняшина демонстрирует алжирская военная проза после войны за обретение независимости (1954–1962), которая по своему историческому, социальному, культурному и символического значению для Алжира была очень близка к Великой Отечественной войне для России.
- Роман «Последний рубеж» показывает, что творческая концепция военной прозы России легко связывается с традиционным мусульманским нравственным идеалом. Это происходит через восприятие морального облика главных героев, которые столкнувшись с жестокостью и беспощадностью войны, демонстрируют человечность, красоту и высоту духа. Данный подход демонстрирует понимание значимости человека и второстепенности войны.
- Общность мусульманского нравственного идеала и моральной линии романа «Последний рубеж» проявляется и в особенном характере романтизма. Романтизм С. Коняшина неразрывно связан с трагизмом, что превращает его военную прозу в довольно специфическую художественную систему, которую современный исследователь назвал «батальным сентиментализмом»[21]. Писатель объединяет романтическую манеру и контрастное столкновение любви и ненависти, жизни и смерти, тем самым подчеркивая, с одной стороны, трагизм судьбы главных героев, с другой же – сопровождающие их, несмотря ни на что, свет и надежду, помогая читателю испытать подлинный катарсис – «очищение от той невыносимой душевной тяжести, в которую мы погрузились при зрелище бедствий и гибели»[22].
- Сжатие и расширение художественного времени, его разнонаправленность и обратимость, многомерность художественного пространства и его свободное преобразование – являются особенностями, значимыми в художественном мире С. Коняшина. Внутренние монологи, диалоги, письма и воспоминания персонажей органично вмонтированы в ткань повествования, а сущность героев и позиция автора часто раскрываются через обращение к приему ретроспекции или контрастного столкновения времен.
Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых — из трех частей, заключения и списка литературы.
Глава 1. Вторая мировая война в русской литературе
Вторая мировая война стала одним из самых трагических событий XX века, потрясшим многие народы и страны. В России эту войну называют Великой Отечественной.
Страны, далёкие от той войны, страдали от нее, как и страны, принимавшие в ней непосредственное участие. Алжир, как и весь арабский мир, в общем и целом находился далеко от грохота артиллерийских орудий. Однако, будучи подконтролен Франции, он формально являлся прямым союзником России, находившейся в самом центре войны. Русский народ, сражаясь с немцами в трудных условиях на фронте и в тылу, переживал эту войну в глубине своей души. Алжирский народ, хоть и не вступил в войну, но вполне ощутил на себе тяжесть голода, болезней и других бедствий, происходивших по причине войны.
Во время войны литература, чутко реагирующая на всё, что происходит вокруг, занимает антивоенную позицию, выполняет своё миротворческое предназначение, донося до читателей трагедию войны. Русская проза отражала историю в антивоенном духе, отобразив все стороны тех событий. Она очень точно показала бессмысленность войны, её разрушительную сторону, а также необходимость услышать призыв военной прозы к миру. Таким образом, исследуя отображение войны в художественных произведениях, читатель сможет узнать о Второй мировой войне (Великой Отечественной войне — для России) и о ее воздействии на культурную жизнь общества.
§ 1.1. Проза о Великой Отечественной войне как классика военной литературы
Вторая мировая война, начавшаяся с нападения фашистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, была самой большой и разрушительной войной в истории человечества. Эта война дорого обошлась всем странам, как непосредственно участвовавшим в ней, так и не принимавшим в ней участия. То состояние, в котором оказались эти страны после окончания войны, было болезненным и неузнаваемым.
Это состояние ярко отобразил в своём всемирно известном романе «Живые и мертвые» великий русский писатель Константин Симонов:
«Война каждый час разлучает людей: то навсегда, то на время; то смертью, то увечьем, то раной. И все-таки, как ни наглядишься на все это, но что она такое, разлука, до конца понимаешь, только когда она нагрянет на тебя самого… Разные характеры бывают сильны по-разному, и иногда их сила заключается в том, чтобы страшась последствий собственного решения все-таки не изменить его… Самая высшая из всех доступных человеку радостей — радость людей, которые спасли других людей».
Этот роман стал одним из наиболее значимых символом памяти о погибших в Великой Отечественной войне русских солдатах.
Современное экономическое, политическое, социальное и даже культурное положение стран мира — как непосредственно участвовавших в вооружённом столкновении, так и не участвовавших в нём — сформировалось в период этой войны. Рассматривая положение в России, которая была в самом центре войны, мы видим, что эта страна пережила, пожалуй, самое тяжелое время за всю свою историю. Неспроста примеры из русской прозы того времени в очередной раз демонстрируют бессмысленность войны, её разрушительную сторону, а также необходимость услышать призыв военной прозы к миру.
1.1.1. Начало Великой Отечественной войны и ее последствия
Для России война началась 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, напала на Советский Союз. Эта война стала одной из самых великих трагедий в истории русского народа.
Русские на протяжении своей истории пережили много войн, и самые крупные из них произошли в 1914–1918 и 1939–1945 годах. Следовательно, можно сказать, что XX век был очень тяжёлым веком для России. В результате войны Россия оказалась в сложном экономическом положении, народ сталкивался со многими трудностями на фронте и в тылу. Одной из самых больших трудностей, конечно, было удовлетворение насущных потребностей людей. Первые месяцы войны характеризовались серьёзным спадом производства продуктов питания.
Сначала свободно использовались запасы продовольствия, и летом продукты даже вывозили за город, но скоро запасы были исчерпаны, и настал голод. Люди съедали мёртвых ворон, собак и котов, варили суп из пуговиц, сделанных из кости. В ноябре 1941 года дневной рацион хлеба для нетрудоспособных иждивенцев, служащих и детей до 12 лет был уменьшен до 125 грамм на человека. Рабочим на заводах и фабриках выдавалось в два раза больше хлеба. Истощённые люди от холода и голода падали посреди улиц и замерзали до смерти.
Советский народ испытывал недостаток пшеницы, сахарной свёклы и хозяйственных товаров. В деревнях люди жили в жалком состоянии: у всех земляные крыши, природа беспощадна. Такое бедственное положение длилось очень долго, и народ получил тяжёлые социальные травмы, которые до сих пор не вылечились до конца.
Поражение немцев в России и в Северной Африке привело к изменениям в мировой политике. Союзники усилили давление на страны, находившиеся под влиянием оси Германия — Италия — Япония, добившись, чтобы они выступили в войне на их стороне. Это помогло России в 1945 г. победить Германию, которая до этого — в 1940 г. — подчинила себе колонизировавшую Алжир Францию.
Несмотря на то, что Алжир не выступал воюющей стороной во Второй мировой войне, эта война оказала огромное воздействие на его экономику и общественную жизнь. Война негативно сказалась на экономическом развитии страны, привела к страданиям бедных и малоимущих слоёв населения. Поэтому тема подвига русского народа в Великой Отечественной войне весьма достаточно близка алжирскому читателю.
В современной русской литературе важную часть занимает война, её причины, последствия и разрушения. В произведениях русской прозы ясно отражены бессмысленность и губительность войны, необходимость внять призыву к миру, бедственное влияние Великой Отечественной войны на политическую, экономическую и культурную жизнь общества.
1.1.2. Русская проза периода Великой Отечественной войны
Для России военная литература получила новую миссию, которую сразу приняли на себя писатели страны. На съезде советских писателей было объявлено: «Каждый советский писатель готов все свои силы, весь свой опыт и талант, всю свою кровь, если это понадобится, отдать делу священной народной войны против врагов нашей Родины»[23].
Когда началась Великая Отечественная война, более тысячи поэтов и прозаиков вступили в армию как военные корреспонденты. Таким образом, во время войны появились и новые темы, и много молодых талантов, нашедших себя в этих темах. В числе писателей, писавших на темы этой войны, можно упомянуть Ю. Бондарева, М. Шолохова, А. Фадеева, В. Гроссмана, Н. Тихонова, И. Эренбурга, В. Вишневского, Е. Петрова, А. Суркова, В. Закруткина, А. Бека, А. Платонова, Г. Бакланова, В. Астафьева, В. Богомолова, В. Быкова, К. Воробьёва, А. Ананьева, В. Курочкина и многих других. Большинство из них сами воевали на фронте и описывали в своих произведениях то, что видели на войне. Таким образом, их произведения подкреплены автобиографическими и документальными сюжетами.
Проза о Великой Отечественной войне предстаёт перед читателем как самая сильная и важная тема русской и советской литературы, так как она сохраняет на будущее память о днях войны, проливает на них свет.
В процессе развития военной прозы можно выделить следующие этапы:
- Военный: 1941–1945 годы, т.е. период собственно Великой Отечественной войны. Во время него произведения писались непосредственно на фронте, авторы были непосредственными участниками событий. Военная проза этого периода разрабатывает тематику единства и солидарности народа, героизма солдат на фронте, смелости, победы, смерти, голода, лишений, страданий и т. п.
- Послевоенный: до 1980-е годов. Период осмысления войны, когда русские прозаики расширяют тематику и начинают писать уже и о таких проблемах, как ошибки в размещении армии СССР, слабое вооружение армии, ротные наказания, плохое питание солдат, неподготовленность к войне, неоправданно большие потери советской армии, совесть, мораль, душа солдата на войне.
- Современный: после распада СССР (1991 г.) по настоящее время. Это период, когда большинства участников войны уже нет в живых. Война из реального исторического события начинает превращаться для русских людей в национальную легенду, обрастает мифами, симулякрами, инсинуациями. Для этого периода характерна ещё более углублённая разработка разнообразной тематики, появившейся в прозе 1950–1960-х годов после смерти Сталина. Опыт прошедших войну писателей чаще направлен на изображение катастрофы, производимой войной в душах людей (мужчин, женщин, детей), писатели показывают душу человека в момент выбора.
В первых произведениях русской прозы периода Великой Отечественной войны в центре внимания находится общая борьба всего русского народа: мужчин, женщин и детей, исполненных веры и решимости. Борис Полевой (1908–1981) в своей «Повести о настоящем человеке» отражает эту борьбу в следующих словах:
«Все мужчины и многие женщины страны воюют, когда даже сопливые мальчишки, став на ящики, так как у них не хватает роста для работы на станке, точат снаряды».
Главный герой повести Алексей Мересьев получает тяжёлое ранение и утрачивает способность ходить. Врач, который лечит его и помогает ему ходить, говорит такие слова о силе, твёрдости и решимости русского народа и солдат:
«Ныне, батенька, война такая: люди с оторванной рукой роту в атаку ведут, смертельно раненные строчат из пулемёта, доты вон грудью закрывают… Только вот мёртвые не воюют…».
В этой связи интересной представляется также повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда». Вот как описывает твёрдость и решительность народа автор этой повести:
«До сих пор воюем. Даже здесь, на Волге, потеряв Украину и Белоруссию, воюем. А какая страна, скажите мне, какая страна, какой народ выдержал бы это?».
В повести «В окопах Сталинграда» отображён опыт офицеров Сталинграда, которые сражались за свою страну, не жалея сил. Военный опыт солдат и народа отражён в военной прозе Великой Отечественной войны в виде картин геройского поведения, переживаний и восприятий героической личности.
Например, в повести Б. Васильева «В списках не значился» героизм народа представлен читателю в образе Плужникова. Как раз перед началом войны Николай Плужников приходит в Брестскую крепость. Его имени ещё нет в списках солдат. Он начинает воевать вместе с другими и продолжает сражаться даже после гибели всех защитников крепости. Этот храбрый молодой человек несколько месяцев не даёт фашистам покоя. Он появляется в самых неожиданных местах, стреляет и убивает врагов. Плужников представляет собой образ героической личности.
1.1.3. Послесталинский период русской военной прозы
После смерти Сталина (1953 г.) русская проза о Великой Отечественной войне освобождается от давления и уже не ограничивается только тематикой героизма и победы. Тематический спектр значительно расширяется. В произведениях этого периода уже показывается бесполезность войны и находит своё отражение тот факт, что советская власть ответственна за эту войну в той же мере, что и фашистская Германия.
Ярким примером этого может служить роман Александра Солженицына «Раковый корпус». Когда главный герой романа Костоглотов рассказывает Зое о блокаде Ленинграда, в его словах улавливается явное обвинение в адрес властей:
«Гитлер и шёл нас уничтожать. Неужели ждали, что он приотворит калиточку и предложит блокадным: выходите по одному, не толпитесь? Он воевал, он враг. А в блокаде виноват некто другой!».
Ещё один пример указания на ответственность власти можно найти в повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». Писатель обвиняет руководство в том, что оно не отправило солдатам помощи и оставило их беззащитными перед врагом. Вот как звучит это обвинение в устах одного солдата:
«Мы все погибли здесь, выполняя приказ. Пришлите плот. За Кондратьева остался я, младший лейтенант Сухоплюев. У нас нет снарядов. Мы все погибли здесь, выполняя приказ…».
Великая Отечественная война приносила разрушение не только своим смертоносным оружием — она в то же время переворачивала душу человека. И поэтому внимание писателей переносится с героических картин на личность и внутренний мир человека на войне.
Этот внутренний мир человека, особенно в произведениях писателей-фронтовиков, лично переживших войну, начинает занимать самое важное место. Не уделяя особого внимания социальным мотивам поведения, писатели исследовали психологическую природу персонажей, обращали главное внимание на психологию и внутреннюю жизнь человека на войне.
В этой связи заслуживает внимания следующий внутренний монолог капитана Ермакова в повести Ю. Бондарева «Батальоны просят огня»:
«Что это я? О чём? Размотались нервы. Такое чувство, словно заплакать готов!.. Совсем никуда! — подумал он, поглаживая пальцами возникшую снова ноющую боль в левой стороне груди. — Огрубел, огрубел за три года…».
Другим примечательным произведением является рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека», в котором рассказывается о жизни солдата, попавшего в плен. В «Судьбе человека» с большой глубиной и простотой раскрывается психология солдата, который, освободившись из плена, вдруг осознал истину, что война отобрала у него всё, что у него было.
В этом рассказе М. Шолохов через судьбу одного человека показывает судьбу всей России. Углубление во внутренний мир героя затем приводит к вопросам ответственности на фронте, морали и совести. Писатели размышляют о проблеме совести на фронте, и в фронтовой прозе совесть выступает основным моральным принципом отношений в мире и главным критерием поведения — от поступков простых солдат до решений командиров.
Такое высокое место совести приводит к появлению в военной прозе новой тематики: «Немцы — тоже люди». Одним из самых ярких произведений по этой тематике является повесть Бориса Васильева «В списках не значился». Когда совсем юного Васю Волкова призвали в армию, он впервые увидел войну:
«И для него даже немецкие солдаты ещё оставались людьми, в которых нельзя стрелять, но крайней мере, пока не прикажут».
В той же повести Плужников не убил немца, которого взял в плен. Вот как объясняется этот поступок милосердия:
«Потому что он не застрелил этого немца всё-таки для себя. Для своей совести, которая хотела остаться чистой, несмотря ни на что».
Можно сказать, что многие произведения Бориса Васильева организованы вокруг этой тематики. Её мы находим и в повести автора «А зори здесь тихие». Одной из героинь повести, Рите, стало плохо от того, что она выстрелила в немца, и командир взвода Кирьянова сказала ей:
«Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился. гад…».
Это расширение тематики военной прозы происходит не только в связи с вопросами причин войны, её ответственных лиц, её развития и сопровождающего войну насилия. Со временем затрагиваются такие темы, как: «Война и дети», «Война и женщины» и т. п.
Самым известным детским произведением, написанным в военные годы, является повесть В. Катаева (1897-1986) «Сын полка». Писатели показывают, как война глубоко ранит души детей и наибольший вред наносит именно детям. В этой связи важны слова из книги А. Твардовского «Родина и чужбина»:
«Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете».
После детей следующими невинными жертвами войны оказываются женщины. Здесь заслуживает внимания произведение Светланы Алексиевич (р. 1948) «У войны не женское лицо». Впрочем, хотя в этих произведениях жертвами оказываются женщины и дети, но на войне жертвами становятся все: дети, женщины, мужчины, старики и молодёжь; такова беспощадная реальность войны. К тому же в этих произведениях показывается, что на войне нет общественных ролей женщины и мужчины, каждый как «солдат» делает всё, что может. Каждый выполняет свой долг в качестве бойца/солдата.
Это хорошо демонстрируют слова старшины Васкова, сказанные в адрес одной женщины-солдата в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие»:
«Нету здесь женщин! — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. — Нету! Есть бойцы, и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем…».
Как мы видели в приведенных примерах, писатели русской прозы о Великой Отечественной войне не просто писали о войне и героизме, но способствовали развитию моральных и гуманных человеческих качеств, и им удавалось отображать самые сокровенные душевные состояния, раскрывающие глубину человеческих чувств.
Таким образом, русская военная проза не «осталась в окопах», но сумела показать важность борьбы и победы, корни героизма советского народа, его моральную силу, идеологическую веру и преданность Родине, трагедию войны, безрезультатность и бессмысленность войны, а также передать антивоенные идеи.
1.1.4. Традиция русской военной прозы за рубежом
Представляется совершенно очевидным, что воздействие войны ощущает на себе каждая страна, независимо от того, вступила она в войну или нет. Литература поставила перед собой задачу открытого отображения этих проблем. С этой точки зрения литературные произведения подобны громкому призыву к миру. В действительности главной целью художественных произведений о войне является изображение причин и следствий того, что было пережито. В первую очередь для того, чтобы извлечь из прошлого урок.
Примечательны в этой связи следующие слова турецкого писателя и литературного критика Онера Ягджы:
«Недаром великий русский писатель Лев Толстой потратил столько сил, труда и времени на написание романа «Война и мир», в котором он изобразил ужас под названием война в великолепном повествовании о мире. Даже рассказывая сны Наполеона прошлых лет, он посылал сигналы для нашего времени. Он исписал тысячи страниц для того, чтобы люди увидели, как льётся кровь, рвутся на части тела, уничтожается природа и жизнь, и чтобы они стали мудрее и никогда не забыли ужаса под названием смерть».
Как ясно показывает приведенный пример, большинство авторов, писавших на тему войны, стремились в своих произведениях призвать читателей к миру. Сегодня все солидарны во мнении, что мир является самой неотложной нуждой человечества. Как сказал азербайджанский писатель Назым Хикмет:
«Жить, как деревья в лесу — отдельно, свободно, но все вместе по-братски — вот наша тоска!…».
И очевидно, что основоположником данной традиции в мировой литературе выступает именно русская военная проза о Великой Отечественной войне.
Выводы к § 1.1.
В заключение отметим, что войны приносят народам не только экономические и политические, но и социальные, моральные и философские проблемы. В литературных произведениях отображается не только весьма насыщенный ход войны, но также трагические и священные страницы истории и мысли о пережитом.
Отображение этих мыслей позволяет героям военных лет донести свои чувства и взгляды современному читателю. Благодаря этому люди получают возможность анализировать один из самых критических периодов в жизни стран и народов. Они приходят к пониманию того, что война есть, по словам Л. Н. Толстого, «противное всей человеческой природе событие».
И вот как раз здесь антивоенные речи военной прозы и раскрываемые ею истины помогают нам правильно строить наше будущее. Благодаря этим истинам читатель получает возможность многому научиться и многое оценить и в мирное время. В этой своей правде литература поднимается выше своей роли активного учителя истории и открывает перед нами горизонты построения лучшего будущего. Война служит для литературы источником тематического разнообразия.
Кроме того, как видно из вышесказанного, примеры других стран демонстрирует, что войны теперь приносят несчастья не только для обществ воюющих стран, но также и для обществ стран, не принимающих непосредственного участия в войне. И значит, настало время что-то сделать для того, чтобы жить в единстве и согласии. Человечеству нужно для мирной жизни больше любви и терпимости. И военная литература русских писателей позволяет лучше понять это.
§ 1.2. Образ защитника Отечества в русской военной прозе XX-XXI веков
Герои русской военной прозы, как и герои русской литературы в целом, это простые обыкновенные люди. В то же время эти персонажи обладают совершенно необыкновенными чертами. Для них характерны такие качества, как сила духа, порядочность и доброта.
Вспомним хотя бы девушек-зенитчиц из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…», которые защитили родину ценой собственной жизни, отважно и бесстрашно выполнили солдатский долг, продемонстрировав безграничный патриотизм. Идея патриотизма звучит в словах Риты: «Мы защищаем Родину». Героические качества личности еще более очевидны у другого героя — Васкова. Он внимателен, дисциплинирован, опытен:
«Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно».
В борьбе с врагом он находчив, спокоен и храбр. Находясь под смертельной угрозой, он знает только одно в этом бою:
«Не отступать. Не отдавать немцу ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно – держать оборону. Держать эту позицию, а то сомнут – и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сыном и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия».
Плужников, герой повести «В списках не значился», мог бы оставить крепость и уйти со своей любимой девушкой, но чувство ответственности требовало, чтобы он остался до конца. Этот молодой человек, которого не было в списках, воплощает в себе «высочайший дух храбрости»[24].
«Он сам себе командир. Он имеет право уйти, имеет право сдаться в плен. Он выбирает, исходя из своего запаса нравственности, благородства, чести, и идет в бой за эту крепость»[25].
Когда Плужников снял со старшины знамя, разделся и обмотал знамя вокруг себя:
«Он уже не ощущал своего «Я», он ощущал нечто большее: свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его родины, частица которой грела его грудь благородным шелком знамени… Важным было одно: звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным. И твердо знал, что звено это – прочно и вечно… Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти… он шел и шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел… Упал свободным и после жизни, смертию смерть поправ».
Как точно отмечает китайский литературный критик Чэнь Цзинъюн, автор этого военного романа «соединил формирование героического характера с нравственным источником великих достижений героя»[26]. И не случайно сам писатель говорил: «Я хочу показать человека с высоким чувством морали и гражданской ответственности, как солдат, который еще совсем подросток, вырастает в настоящего воина, при виде которого враг будет трепетать от страха»[27].
В другой повести — «Завтра была война» — нет прямого описания войны. Идеологические и моральные качества героев писатель художественно исследовал через историю об учебе и жизни девятиклассников. Черты характера этих молодых людей, честных и добрых, любящих родину, умеющих любить и ненавидеть, являются основой героического поведения и даже победы на войне. Об этом в повести говорится следующим образом: «Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, сполохи которого еще долго светят грядущим поколениям».
Действительно, Б. Васильев не стремился передать свои идеалы через образы великих героев. Его герои – обыкновенные, неидеальные люди. То, что они делают, о чем они думают, нельзя назвать героическими делами и героическими мыслями. Это простые люди с определенными слабостями и противоречиями, но в то же время они патриоты с чувством гражданской ответственности и героическим характером.
1.2.1. Характер героев русской военной прозы
Персонажи русской военной прозы в основном новобранцы. И хотя они уже солдаты, но солдаты незрелые, не имеющие пока опыта войны, не привыкшие еще соблюдать правила и уставы, не всегда знакомые с боевой обстановкой, подчас даже наивные. А еще они молоды, иногда даже юны, потому подчас не понимают, с чем им предстоит столкнуться, с какой жестокостью войны. Например, в повести «Завтра была война» есть строки, раскрывающие мотивы поведения таких юных героев: «Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. Мы сами избирали её, мечтая об армии, авиации и флоте: мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало».
Плужников, герой повести «В списках не значился», сразу по окончании военного училища с присвоением воинского звания получил приказ о прибытии в воинскую часть, но он не был готов ни морально, ни с точки зрения реального боевого опыта столкнуться с тем, что ему предстояло испытать. Пока он просто радуется тому, что его новенькая военная форма «хрустит, хрустит приятно, громко и мужественно… и хруст этот очень ему нравится». Когда курсанты первый раз его приветствовали, «Коля изо всех сил старался отвечать с усталой небрежностью, но сердце его сладко замирало в приступе молодого тщеславия… И уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к вискам, старательно хмурил брови, стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка, лицу выражение невероятной озабоченности».
В то время он плохо понимал, что такое война, в душе он просто гордился своим статусом офицера. На контрасте с этим состоянием героя в начале повести автор изобразил страшные картины войны, с которыми молодой офицер столкнулся позже, уже на фронте: он бежал неуклюже, «лицом вниз упал в ближайшую воронку» и потерял сознание. Когда первый раз видел убитого, «жуткое любопытство невольно притягивало к нему». При атаке близкие выстрелы застали его врасплох, он потерял пистолет и чуть не попал в плен.
Нельзя назвать бывалыми солдатами и зенитчиц из повести «А зори здесь тихие…». Это обыкновенные девушки, шумные и задиристые, любящие пошутить над Васковым. Оглядывая их при первом построении, старшина сморщился:
«Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове… Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей».
После того как Женька, одна из зенитчиц, впервые убила человека, ей было плохо даже физически:
«Женька вдруг отбросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала – маму, что ли…».
Некоторые другие героини были убиты просто по глупости — Соня из-за того, что хотела принести кисет Васкову, а Галка из-за того, что от страха выбежала из кустов, укрывавших ее, прямо на немцев.
Можно сказать, что именно такое противоречие между силой и слабостью, храбростью и робостью делает героев русской военной прозы реалистичными и яркими. Показательно, что положительные черты этих персонажей как бы несколько снижают трагизм произведений. Слово русских классиков военной прозы – слово романтическое, страстное. Возможно, именно поэтому трагические финалы этих романов не отнимают у читателя веру в жизнь и чувство торжества справедливости.
1.2.2. Раскрытие внутреннего мира персонажей
Одной из важнейших характеристик героев является их речь. Разговорная речь персонажей (включая диалект, жаргон, сленг и просторечие) подчеркивает их индивидуальность, вызывает интерес у читателя, делает образы узнаваемыми, понятными и близкими каждому. Разговорный характер речи персонажей в основном представлен в диалогах. Часто эти диалоги занимают большое место, они могут отражать взаимоотношения героев, их характер и психологическое состояние.
Например, в повести «А зори здесь тихие…» у Васкова грубоватая внешность, но при этом он лоялен и добр. У него только четыре класса образования, поэтому в его языке большое количество разговорных и диалектных слов. Например, он называет немцев немчурами и фрицами, использует разговорную лексику (наворачивать, умаяться, помер, покуда) и диалектные слова (дрыгва, леший, лешак, сиверко, чуня, хованки). Показателен пример из эпизода о переходе главных героев через болото: когда Васков произнес слово слега, то девушки его даже не поняли.
– Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь…
– Можно вопрос?
Господи, твоя воля! Утерпеть не могут.
– Что вам, боец Комелькова?
– Что такое – слегой? Слегка, что ли?
Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуты.
– Что у вас в руках?
– Дубина какая-то…
– Вот она и есть слега. Ясно говорю?
– Теперь прояснилось. Даль.
– Какая еще даль?
– Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника.
Комелькова вскользь сказала, что слово «слега» включено в словарь Даля, но Васков не знает, что речь идет о словаре. Употребление этих разговорных слов не только соответствует характеру и культурному уровню Васкова, но и раскрывает читателям личность героя.
Так, Соня – студентка университета, знающая и любящая литературу. Она любит «бубнить нараспев, точно молитву» строки из тонюсенького сборника стихотворений А. Блока. Она является «воплощением поэтической натуры»[28], ее образ, возможно, даже перекликается с образом «Прекрасной Дамы, Незнакомки», вышедшей из томика стихов А. Блока[29].
Еще одной отличительной чертой русской военной прозы является ее глубокий психологизм, служащий важным средством раскрытия внутреннего мира литературного персонажа. Создавая произведение, автор представляет персонажей, стремится выстроить сюжет, воссоздать окружающую обстановку, прибегая иногда для этого к помощи рассказчика. Воспоминания, внутренние монологи, сны и слова героев являются важным средством раскрытия их сложного и богатого внутреннего мира.
Воспоминания и внутренние монологи героев довольно часто встречаются в военных произведениях русских писателей. Например, в повести «А зори здесь тихие…» это воспоминания Васкова о своем жизненном опыте, воспоминания Риты и Лизы о любви, Сони и Жени – о семейной жизни до войны и т.д.
Нередко для выражения мыслей персонажа в конкретной ситуации используется внутренний монолог, он во многом способствует раскрытию характера героя. В качестве примеров можно привести внутренние монологи старшины Васкова из «А зори здесь тихие…». Читатели таким образом могут глубже проникнуть во внутренний мир героев и увидеть их великие устремления и готовность принести себя в жертву во имя родины.
1.2.3. Женские образы
Следует также отметить, что изображение на войне женщин является еще одной важной особенностью произведений русских писателей. В частности, Б. Васильев отмечал в одном из своих интервью, что сделав из женщин солдат в военных шинелях, он ни в коей мере не противоречил правде жизни:
«Смерть солдата на войне – какой бы невыносимой и печальной она ни казалась – это все-таки ожидаемое событие и то, что рано или поздно должно произойти. Однако смерть молодой девушки от вражеской пули – это отвратительная и неестественная трагедия, которая вызывает особенно сильное горе, потому что этим девушкам суждено было прийти в мир ради любви. Поскольку я выбрал девушек в качестве главных героев, это преобразует повесть и делает ее богатой определенными моральными значениями и эмоциональным подтекстом. С одной стороны, это дает мне возможность изобразить представителей из разных социальных классов, имеющих общую волю и одинаковую ненависть к захватчикам; с другой стороны, у меня была возможность выразить главное, что определяет ценность человека. Это та моральная сила, которая поддерживает его в испытаниях в чрезвычайно тяжелых условиях без потери достоинства»[30].
Русские писатели всегда очень тонко изображали женские образы, будь то пять женщин-солдат в повести «А зори здесь тихие…», или добрая и смелая Мирра в повести «В списках не значился», или Искра, Вика, Зина в повести «Завтра была война». Эстетическую традицию описания женщин советские писатели унаследовали от классической русской литературы. Поэтому они искренне, с большим уважением относятся к женщинам, уделяют внимание их судьбам, передают их обаяние, нежность и доброту, показывают реальную жизнь женщин, их чувства и желания.
Еще более ценным является то, что русские писатели, не переставая изображать женщин как «слабых» и «несчастных», одновременно передает и храбрость, и бесстрашие женщин на войне, демонстрируя их величие в обыденности. Для русских писателей женщина является символом гармонии и красоты. Они с горечью показывают в своих произведениях, как война уничтожает красоту, отбирает родину и в конце концов и саму жизнь. В их строках чувствуется нестерпимая боль от ухода прекрасных женщин, а также явное отвращение к войне.
1.2.4. Литературные портреты героев русской военной прозы
В создании образов героев литературных произведений большую роль играет портрет. Характеризуя внешность и внутренний мир героев, портреты раскрывают их человеческую природу. В этом смысле портрет не только «документ, запечатлевший манеры, жесты, черты того или другого лица, но и отпечаток культурного языка эпохи и личности своего создателя»[31].
В повести «А зори здесь тихие…» можно найти много волнующих женских портретов: Рита – это девушка, которая «не засмеется никогда, только что повела чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются»; Женька очень красива, она «как русалка, ее кожа прозрачна», а «зеленые, круглые, как блюдца, глаза и красивые рыжие волосы завораживают»; Галя – «худющая, востроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки».
Кроме того, автор подробно описывает одежду молодых женщин: «красивое белье было Женькиной слабостью»; Соня «в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги… Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги – на два размера больше». Эти детали делают женские образы более яркими и реалистичными.
Как утверждает Е. А. Колотилина, «портретирование женских образов служит созданию идейно-художественной целостности произведения. Не случайно изображение дается в деталях, что помогает раскрыть женские образы постепенно и живописать собирательный образ женщины в условиях войны»[32]. Писатель таким образом подчеркивает разрушительность и антигуманную природу войны.
Пять зенитчиц в повести «А зори здесь тихие…», Мирра в повести «В списках не значился» – все они трагически погибли. Эти факты говорят о несовместимости самих понятий «женщина» и «война»: женщины не приспособлены к условиям военной жизни, не созданы для войны в принципе.
Заметим, что в повести «А зори здесь тихие…» писатель подробно описал жизнь каждого героя до войны: Женька была дочерью генерала, ее родители, сестры и братья были убиты фашистами; муж Риты погиб на второй день войны; Лиза в четырнадцать лет стала ухаживать за больной матерью; Соня была хорошей студенткой университета, в момент начала войны она была в Москве, готовилась к сессии и перестала получать известия о родителях; Галя была сиротой, тосковала по любви, обманывала других, что у нее есть мама, которая работает врачом… Такая информация о жизни героинь до войны помогла глубже понять их характеры и дальнейшее их поведение.
Выводы к § 1.2.
Русские писатели описывают жестокость войны, чтобы призвать людей противостоять ей, призывают читателя к размышлению о будущей жизни.
Общая черта этих произведений заключается в том, что русские писатели не стремятся создать образы всемогущих «супергероев». Вместо этого они рисуют характеры простых людей. Доминирующая идея их произведений заключается в том: что красота в любых своих проявлениях может быть эстетическим идеалом и у простых людей. Пять зенитчиц и старшина Васков в повести «А зори здесь тихие…», Плужников в «В списках не значился», ученики в «Завтра была война» — все это простые люди, но их души прекрасны и чисты. Именно такие обычные люди проявляли на войне силу и смелость, жертвовали своей жизнью, чтобы защитить родину. Это едва ли не самая главная особенность названных произведений, отличающая их от других.
В художественном мире русской военной прозы авторская позиция чаще всего проявляется через образ повествователя, или автора. Писатель порой открыто представляет свои мысли, а порой имплицитно присутствует в тексте, проявляясь в монологах, диалогах, поступках героев или даже в описании пейзажа.
Авторский голос нередко выражается и с помощью средств и способов художественной выразительности, таких, например, как приемы контрастного описания и символического изображения. Своеобразие образа автора в русской военной прозе помогают раскрыть также категории художественного времени и художественного пространства.
§ 1.3. Проблема человека на войне: пафос героизма и гуманизма в русской военной литературе
«Человек и война» — центральная тема в творчестве многих известных советских писателей. Она предполагает, конечно же, не только и не столько обращение к антивоенной проблематике, но и то, что в рамках этой темы писатели размышляют о других вечных темах, таких как «любовь и ненависть», «жизнь и смерть», «добро и зло».
1.3.1. Романтическая любовь на войне
Одной из наиболее важных тем часто становится любовь в самых различных ее проявлениях — любовь мужчины и женщины, любовь к родине, любовь к миру и жизни. Через раскрытие диалектики любви русские писатели стремятся показать все богатство и сложность человеческих эмоций. При этом для русской литературы о Великой Отечественной войне характерно, что в ситуации сложного этического выбора между любимым человеком и родиной герои всегда выбирают родину. Да, все они бесконечно полны любви к жизни, но выбирают смерть — ради счастья и свободы своих родных и близких, ради независимости и процветания своей страны. В этом и заключается, по мысли русских писателей, величие простых людей на войне.
Нельзя не согласиться с мнением А. Бочарова, утверждающего в книге «Требовательная любовь», что любовь в окопах и убежищах — «это высоко человеческое выражение, обогащающее и раскрывающее целостность
человеческого духа, а иногда непосредственно вдохновляющее на героическое поведение»[33]. Ведь люди жаждут любви и хотят ощутить ее красоту, и это естественное отражение нормальных человеческих чувств. Поэтому и в произведениях Б. Васильева, например, война не уничтожает любовь солдат, а наоборот, их любовь становится здесь чище и выше. Независимо от ситуации, герои русской военной прозы всегда стремятся к любви — сами любят и хотят, чтобы их любили. Героиня повести «Завтра была война» Вика говорит:
«Счастье – это любить и быть любимой… Я не хочу какой-то особой любви: пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети. Трое: вот я – одна, и это невесело. Нет, два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал… чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин».
Жаждет любви и каждая из героинь повести «А зори здесь тихие…». До войны Лиза влюбилась в охотника, который однажды остался ночевать в их доме. Застилая постель для гостя, девушка волнуется, ее сердце бешено бьется:
«Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову. Просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилось сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и – исчезло».
Лиза довольно замкнута, поэтому у нее нет друзей, она одинока и жаждет, чтобы кто-то любил ее и заботился о ней:
«Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и – в этом она себе не признавалась – может быть, даже поцеловали».
Как только началась война, девушка ушла на фронт. Васков «понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравились его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага». Когда Васков предложил ей после выполнения боевого приказа вместе спеть песню, она «думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего незнакомого чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках». Все это – естественное выражение любви. Ее любовь невинна, чиста, полна надежды. Такая любовь придавала ей огромную силу, именно она и подтолкнула девушку к тому, чтобы в одиночку пойти на задание. Даже когда Лиза тонет в болоте, она до последней минуты не теряет надежды.
В повести «В списках не значился» также много страниц посвящено описанию любви Плужникова. Писатель рассказывает, как Коля, «запинаясь, приглашал библиотекаршу Зою на бал»; как влюбился с первого взгляда в подружку сестры Валю и на семейной вечеринке незаметно наблюдал за ней, ловил ее улыбки, взмахи ресниц, редкие взгляды, «а сердце стучало, как паровой молот возле станции метро Дворец Советов»; как в крепости он встретил Мирру и полюбил ее. В отличие от любви с первого взгляда к Вале, эта новая любовь была глубока и велика. Коля и Мирра поддерживали друг друга в экстремальных условиях, делили все тяготы войны. Когда Мирра рассказывала о своей любви, она «крепко прижимала к груди его руку, плакала и говорила, говорила, дрожа, как в ознобе. Все вдруг рухнуло для нее: и привычная настороженная пугливость, и робость, и застенчивость. Горячая благодарность словно растопила все оковы, искреннее чувство любви и нежности затопило ее, заставив забыть обо всем, и она спешила рассказать ему об этом, излить всю себя, ни на что не рассчитывая и ни на что не надеясь».
Наверху шла война, в подвале же была только их любовь:
«Снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах. И снова не было войны, а были двое. Двое на Земле. Мужчина и Женщина».
1.3.2. Патриотизм, закаленный ненавистью к врагу
Известный русский военачальник маршал Г. К. Жуков в мемуарах «Воспоминания и размышления» писал:
«Обо что же споткнулись фашистские войска, сделав свой первый шаг на территорию нашей страны? Что же прежде всего помешало им продвигаться вперед привычными темпами? Можно твердо сказать – главным образом массовый героизм наших войск, их ожесточенное сопротивление, упорство, величайший патриотизм армии и народа»[34].
Главные герои русских произведений о войне не раздумывая идут на войну, самоотверженно сражаются на фронте – так воплощаются их патриотические чувства, ими движет именно любовь к родине.
Так например, Васков до последнего момента придерживался единственного принципа: «Не отступать». Рита перед смертью говорит Васкову: «Мы защищали Родину!» («А зори здесь тихие…»).
Лейтенант Плужников, не попавший в списки, защищал крепость до последнего момента. Парализованный старшина Семишный рассказывает о себе: «Думал, кто я теперь есть. Как назваться, если немцы найдут, а застрелиться не успею. И думал так сказать: русский солдат я. Русский солдат мне звание, русский солдат мне фамилия». Перед смертью, передавая знамя Плужникову, Семишный произносит:
«Знамя полка на мне, лейтенант. Его именем приказывал тебе. Его именем сам жил, смерть гнал до последнего. Теперь твой черед. Умри, но немцам не отдавай. Не твоя это честь и не моя – родины нашей это честь. Не запятнай, лейтенант».
В то же время любовь на войне неизменно сочетается с ненавистью. Очень точно и выразительно сказал об этом герой повести «Завтра была война» директор Николай Григорьевич:
«Настоящий мужчина — тот, кто любит только двух женщин. Да, двух, что за смешки! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть, и это самые главные предметы в жизни!».
Действительно, война разрушает любовь и лишает людей счастья, именно
поэтому любовь эта трансформируется в ненависть к врагу, вдохновляет на героическую борьбу, на месть за своих близких. Как отмечал Б. Васильев в своем интервью китайским журналистам:
«Еще одно глубокое чувство я открыл во время войны, оно заключается в сочетании сильной ненависти и любви… Было бы невозможно победить, не научившись сильно ненавидеть вторгающегося врага. С другой стороны, наша армия пронизана любовью, которая является не только братским чувством между солдатами, офицерами, но и священной любовью к нашей родине и народу. Именно такая великая любовь, основанная на глубоко укоренившейся ненависти к вторгающемуся врагу, объединяет наш народ и военных в единое целое»[35].
1.3.3. Жажда жизни
Тема любви к жизни — традиционно одна из самых значимых в русской литературе. Она неизбежно актуализирует проблему выбора, который герой должен сделать, находясь в ситуации пограничья жизни и смерти.
С одной стороны, главные герои русской военной прозы – это люди, любящие жизнь и полные надежды на будущее. Например, повесть «А зори здесь тихие…» содержит множество описаний повседневной жизни женщин-солдат — эти шумные, непослушные зенитчицы любят давать прозвище Васкову, им нравится собирать ягоды и щавель, готовить еду, сушить белье, жарким днем «загорать на казенном брезенте в чем мать родила». Даже в тяжелых условиях войны они по-прежнему живут с надеждой на светлое будущее. Лиза, например, всю свою недолгую жизнь прожила в ощущении завтрашнего дня. Даже уже тонущая в болоте, «Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила. Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет – теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее». В свой последний час и Женька тоже «не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно. И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет».
С другой стороны, столкнувшись с выбором между жизнью и смертью, эти герои, имеющие огромную любовь к жизни, оказались достаточно смелыми, чтобы отказаться от нее, что, безусловно, нельзя расценить иначе как проявление героизма. По словам А. Бочарова:
«Неразрывность героического и трагического – важнейшее качество военной прозы: военный герой – чаще всего трагический герой, а военные обстоятельства – чаще всего трагические обстоятельства, будь то столкновение двух сражающихся армий или конфликт человечности с бесчеловечием, жажды жизни с суровой необходимостью жертв»[36].
Тяжело раненная, умирающая Рита просит Васкова поцеловать ее. В этой просьбе проявилась глубокая привязанность девушки к жизни и любви, но в то же время, как пишет автор, «она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама». Защищая подполье, Искра была повешена гестаповцами; Артем сам себя взорвал вместе с мостом, когда перебило провод («Завтра была война»). Отношение писателя к жизни и смерти наглядно показывают слова Плужникова:
«Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя… А человека победить невозможно, даже убив. Человек выше смерти. Выше…» («В списках не значился»).
Смерть — это отрицание жизни и разрушение природной красоты. Война и смерть неразделимы. Изображение смерти главных героев придает военной прозе двух стран явно трагический характер. Как говорил еще Н. Чернышевский:
«Трагическое есть страдание или погибель человека – этого совершенно достаточно, чтобы исполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой погибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила»»[37].
Но в то же время патриотический дух и героические поступки главных героев придают их смерти высокую ценность: смерть в этих произведениях становится «объектом поэтической красоты, позволяя оценить смысл существования в эстетике смерти, так что противоположные категории жизни и смерти объединяются в эстетической сфере»[38]. Смерть, таким образом, является не только разрушением жизни человека, но и воплощением благородства его духа. В произведениях о войне проявляется преклонение перед такой смертью.
1.3.4. Оставаться человеком
Итак, патриотизм и героизм являются неотъемлемыми чертами военной литературы. Еще одна общая черта всех анализируемых произведений – значимость человеческого начала. Эта особенность тесно связана со сложностью внутреннего мира героев произведений. Так, все герои русской военной прозы в той или иной степени обладают такими положительными качествами, как доброта, смелость, ответственность, честность, порядочность, и именно эти качества в героях побуждают их придерживаться высоких моральных принципов даже в экстремальных условиях войны.
Если в начале повести «А зори здесь тихие…» старшина Васков предстает перед читателями очень серьезным, официально обращается к девушкам «товарищи бойцы», то позднее он начинает ласково называть их «девочками», «сестрами». Гуманность находит свое отражение в заботе о девушках, их смерть приносит Васкову страдания, он обвиняет себя и не считает, что их смерть является «необходимостью войны», «необходимой для победы». Все это показывает лучшие свойства его характера, человечность.
В повести «В списках не значился», когда солдаты не хотят брать с собой Мирру из-за ее инвалидности, Плужников кричит:
«Мы – Красная Армия, это вы понимаете? А я его не забывал! … Вот он, билет, здесь, на сердце! Я его вместе с жизнью отдам, только вместе с жизнью!».
Когда Коля взял в плен немца, поначалу он испытывает некоторые сомнения, стрелять ли в него; в конце концов он его отпускает. Автор так комментирует этот поступок героя:
«Он не застрелил этого немца все-таки для себя. Для своей совести, которая хотела остаться чистой, несмотря ни на что».
Такой поступок героя показывает, что посреди жестокой, злобной и ненавистной войны человек не утрачивает своей человечности и не превращается при виде смерти и крови в лишенное эмоций чудовище.
Даже изображение врага в произведениях о войне также является важным показателем гуманизма писателей.
Так, например, у Б. Васильева после пленения немец:
«важно достал из кармана черный пакет, склеенный из автомобильной резины. Вытащил из пакета четыре фотографии и положил на стол. Это его дети. Мирра и тетя Христя рассматривали фотографии, расспрашивали пленного о чем-то важном, по-женски бестолково подробном и добром. О детях, булочках, здоровье, школьных отметках, простудах, завтраках, курточках».
Весь этот фрагмент, наполненный столь значимыми и красноречивыми деталями, демонстрирует гуманное мышление русских писателей: враг — тоже человек, у него есть семья, дети, любимые люди, они тоже испытывают любовь к жизни, только война разделяет людей на противоборствующие стороны, несет конфликты и трагедии.
Выводы к § 1.3.
Одной из важнейших тенденций в развитии мировой современной литературы о войне является углубление гуманизма. Русская военная проза не стала исключением. Акцентированная субъектность человека и второстепенность войны во многих произведениях показывают, что русские писатели постоянно размышляют над двумя вечными темами — природа человека и сущность войны.
Анализ военной прозы о Великой Отечественной войне позволяет утверждать, что практически все русские писатели в первую очередь обращают внимание на человеческое начало своих героев, их нравственные принципы. Они пишут не только о трагедиях, которые приносит война, но исследуют природу человека в экстремальных условиях войны, подчеркивают значимость любого человека на войне, пытаются выявить моральные источники его героизма и патриотизма.
Такой подход к описанию войны позволил русским авторам художественно осмыслить события прошлого, предложить разностороннее, психологически достоверное и глубокое изображение войны. Размышляя о трагичности и бесчеловечности войны, авторы-гуманисты призывают читателей дорожить тем, что завоевано громадной ценой, — миром и счастливой жизнью сегодняшнего дня.
Глава 2. Восприятие романа «Последний рубеж» в дискурсе традиционного нравственного идеала
Одним из наиболее ярких образцов современной русской военной прозы является роман новороссийского писателя Сергея Сергеевича Коняшина «Последний рубеж». Зарубежному читателю он интересен в первую очередь тем, что является одним из наиболее известных литературных произведений об обороне Новороссийска в период Великой Отечественной войны.
Находясь на самой южной окраине советско-германского фронта, на побережье Черного моря, этот небольшой город выдержал один из самых тяжелых за всю Вторую мировую войну натисков немцев и их многочисленных союзников. Войска вермахта не только не смогли продвинуться дальше Новороссийска, чтобы захватить стратегически важные нефтепромыслы на Кавказе, но и потерпели на руинах этого города одно из самых сокрушительных поражений за всю историю войны.
Несмотря на это о подвиге защитников Новороссийска не так много известно за пределами России. Наиболее узнаваемое за пределами России произведение о подвиге защитников Новороссийска — военный роман русского писателя Сергея Коняшина «Последний рубеж».
Новизна эмпирического материала вкупе с чисто литературными достоинствами во многом определила наш выбор в пользу исследования именно этого произведения в данной диссертации.
§ 2.1. Ратный подвиг Новороссийска в произведениях литературы
Литература города-героя[39] Новороссийска, расположенного на самом Юге России, прошла почти двухвековой путь развития — от первого стихотворения, написанного Михаилом Фёдоровым в 1840 году, до произведений современных писателей. Она накопила большой познавательный, воспитательный и эстетический потенциал.
В этом городе побывали такие выдающиеся русские писатели и поэты как Глеб Успенский, Антон Чехов, Владимир Короленко, Генрик Сенкевич, Иван Бунин, Владимир Маяковский и др. Образ Новороссийска создали в своих произведениях классики отечественной литературы: Александр Серафимович, Андрей Платонов, Михаил Шолохов, Фёдор Гладков, Николай Зарудин, Николай Островский, Всеволод Вишневский, Константин Паустовский и др.
Значительный вклад в развитие культурных традиций Новороссийска внесли местные писатели — Пётр Чихачёв, Ким Клеймёнов, Константин Мурзиди, Сеитумер Эмин, Александр Ерёменко, Михаил Глинистов, Светлана Летт, Александр Плонский, Александр Иващенко, Константин Подыма и др. В настоящее время плодотворно работают в различных жанрах литературного творчества Николай Бойков, Виктор Буравкин, Эдуард Каира, Виктор Пахомов, Елена Янович, Евгения Гончарова, Алла Шкаровская, Сергей Коняшин и другие значительные поэты и прозаики.
2.1.1. Роль Новороссийска в победе над фашизмом
До сих среди историков и военных аналитиков не утихают споры о том, почему советские войска не сдали полностью Новороссийск и какую роль сыграл этот город в победе СССР в Великой Отечественной войне.
19 августа 1943 года началась героическая оборона Новороссийска. Кровопролитные бои продолжались 393 дня. Дольше длилась только блокада Ленинграда.
В первые же дни войны Новороссийск стал важным стратегическим пунктом. В ноябре 1941 года сюда был переведен основной состав штаба Черноморского флота. Через Новороссийский морской порт фронт снабжался боеприпасами, снарядами и всем необходимым. Отсюда же происходила и эвакуация предприятий в глубь страны.
Овладеть крупным морским портом на Черном море с отлаженным железнодорожным сообщением, безусловно, хотел и сам Гитлер. Кроме этого, в Новороссийске были крупные месторождения мергеля — т.н. «серого золота», из которого вырабатывался высококачественный портланд-цемент, стратегически необходимый для промышленности всего Третьего рейха.
Но самое главное — Новороссийск имел для нацистов важнейшее геополитическое значение. Новороссийское Сухумское шоссе являлось единственной дорогой, идущей между морем и горами к советско-турецкой границе. По ней моторизованные войска вермахта планировали преодолеть Кавказский хребет и дойти до Турции, которая пока держала нейтралитет.
Желание противоборствующих сторон привлечь Турцию к участию в войне было вполне объяснимым. Во-первых, эта страна располагалась в двух частях света — Европе и Азии и под ее контролем находились стратегически важные черноморские проливы. А во-вторых, она граничила с советским Закавказьем, богатым нефтью, и Персией, через которую наша страна получала грузы от союзников по антигитлеровской коалиции.
В случае падения Новороссийска гитлеровцы планировали переименовать его в Адольфштадт (в честь фюрера) или в Кауказузинг («Кавказская победа»).
Наступление на Новороссийск вермахт начал 19 августа. Но с ходу взять город не получилось. Пять тысяч молодых солдат 103-й курсантской стрелковой бригады держали оборону более двух недель. Для защиты города был создан Новороссийский оборонительный район (НОР). Но силы были неравны. 6 сентября гитлеровцы все-таки ворвались в Новороссийск и за несколько дней заняли почти весь город.
По воспоминаниям очевидцев, с первого же дня оккупанты начали грабить, насиловать и убивать местных жителей. Мародеры ходили по домам и забирали у жителей все, вплоть до зубного порошка и щетки. По всему городу стали появляться виселицы. Сотни невинных жителей были замучены, расстреляны или повешены. Войска НОРа гитлеровцы вытеснили в восточную часть города, в новороссийскую промзону цементных заводов.
Несмотря на увеличивающийся натиск противника, оставшиеся в живых бойцы НОРа смогли организовать оборонительный рубеж по балке Адамовича у стен завода «Октябрь». Благодаря этому захватчикам не удалось продвинуться дальше цементного завода, а в Новороссийскую бухту не смог войти ни один немецкий корабль.
В январе 1943 года советские войска впервые попробовали прорвать немецкую оборону, но из-за плохой подготовки наступление закончилось полным провалом.
Через месяц была предпринята вторая попытка, однако и тут морскому десанту не удалось прорваться на берег. Тогда небольшая группа, возглавляемая майором Цезарем Куниковым, высадилась и закрепилась в районе поселка Станичка на южном рубеже Новороссийска. Двое суток, пока к ним не подоспела подмога, десантники держались, отбивая по 15-20 атак в день. Плацдарм атаковали как артиллерия, так и бомбардировочная авиация фашистов.
Именно этот клочок земли площадью около 30 квадратных километров стал настоящей передовой, но без тыла (с одной стороны — жестокий враг, с другой — холодное штормящее море) и вошел в историю Великой Отечественной войны под названием «Малая земля».
Захват и удержание этого плацдарма создали более чем серьезную угрозу всему правому флангу немецкой обороны. Малая земля отвлекла на себя значительные силы с других участков Черноморской группы войск немцев Северо-Кавказского фронта. Кроме того, десант раз и навсегда исключил даже малейшую возможность использования противником Новороссийского порта. При любой попытке прорваться внутрь бухты суда противника попали бы под двусторонний обстрел, не дававший ни единого шанса уцелеть.
Самоотверженные советские солдаты держали оборону этого участка города 225 дней.
За это время немецкие войска основательно закрепились в городе. Советское командование понимало, что оборону прорвать будет далеко не просто, поэтому было решено атаковать сразу с трех сторон: с Малой Земли, от Туапсинского шоссе и третий удар нанести с моря, высадив десант непосредственно в Новороссийский порт.
Кораблям с десантом предстояла сложная задача: прорываться через узкий проход в порт между молами в глубоко вдающуюся в сушу Цемесскую бухту, западный берег которой был занят противником.
В ночь на 10 сентября начались авиационные удары по вражеской обороне. Катера атаковали торпедами огневые точки противника на молах и побережье. В это время под сильнейшим ответным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем врага высаживался первый эшелон десанта.
Поняв, что началась десантная операция в порту, гитлеровцы стал спешно стягивать к нему силы. Тем не менее, несмотря на сильнейший огонь противников, в ночь на 11 сентября началась высадка второго эшелона десанта. Советским войскам удалось не только полностью отбить у врага цементный завод «Пролетарий» — сильнейший узел обороны на побережье, но и прорваться в город. Начались уличные бои. Шаг за шагом, квартал за кварталом — красноармейцы сражались за каждый клочок земли. Все это время их активно поддерживала советская авиация, которая в ходе ожесточенных боев смогла завоевать господство в воздухе.
Противостоять этому удару противник уже не мог. Немецкое командование отдало приказ об оставлении города, и утром 16 сентября Новороссийск был полностью освобожден.
Победа под Новороссийском привела к изгнанию врага со всего Таманского полуострова.
2.1.2. Новороссийские писатели в бою с гитлеровскими оккупантами
С первых дней Великой Отечественной войны Новороссийск, как и другие порты, стал прифронтовым городом. Он подвергался бомбардировкам вражеской авиации, отсюда уходили на помощь другим черноморским гарнизонам боевые корабли.
Осенью 1942 года фашисты подошли к стенам Новороссийска, которому суждено было сыграть выдающуюся роль в освобождении России от захватчиков. Тогда-то этот небольшой город и стал тем самым последним рубежом, который не смогли преодолеть фашисты, остановленные обескровленными советскими войсками у стен цементного завода «Октябрь».
Не удалось немцам в полной мере использовать для продолжения наступательной операции и Цемесскую бухту, которая находилась под контролем советской артиллерии. Вокруг Новороссийска развернулись ожесточённые кровопролитные бои. Умелый и коварный враг обрушил на защитников города шквал раскалённого металла. Эпопеей невиданного мужества стало сражение на Малой земле.
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года советские десантники под командованием майора Ц. Л. Куникова высадились в поселке Станичка на западном берегу Цемесской бухты. Вовремя доставленное подкрепление позволило русским войскам прочно закрепиться на плацдарме. 225 дней велись упорные бои на обильно политом кровью клочке советской земли рядом с Новороссийском.
С освобождения Новороссийска 16 сентября 1943 года началось широкое наступление советских войск на запад, завершившееся освобождением от нацистов нескольких европейских стран и взятием Берлина в 1945 г.
В тех боях достойно проявили себя многие советские писатели, ставшие не только очевидцами, но и активными их участниками. По некоторым сведениям, на борту военного корабля «Ташкент», совершавшего свой последний рейс из осаждённого Севастополя в Новороссийск 27 июня 1942 года, находился Евгений Петров. Спустя несколько дней — 7 июля — замечательный сатирик стал жертвой авиакатастрофы. В сражении за Новороссийск погибли молодые талантливые писатели Павел Коган и Анатолий Луначарский.
Павел Давыдович Коган, автор широко известного романтического стихотворения «Бригантина», родился в Москве в 1918 году. Он учился в Институте философии, истории и литературы, потом перевёлся в Литературный институт им. А. М. Горького. В поэтическом семинаре Ильи Сельвинского Павел выделялся своей одарённостью и по праву считался надеждой молодой советской литературы. Предвоенный год стал для него временем поэтической зрелости, сложного духовного поиска. Поэт работал над романом в стихах «Владимир Рогов». Давид Самойлов вспоминал:
«О романе много спорили. Он был сложно задуман, черты автобиографические переплетались с историей времени и патетическим предвидением будущего».
С четвёртого курса института Павел уехал работать в геологическую экспедицию в Армению. Там и застала его война. Из-за близорукости он был снят с воинского учёта, но сделал всё, чтобы попасть на фронт. Окончив курсы военных переводчиков, Коган получил назначение в действующую армию, в стрелковый полк.
В боях за Новороссийск Павел Коган становится заместителем начальника штаба по разведке. Вызвавшись возглавить ночной поиск разведчиков, Коган погиб у вершины горы Сахарная голова в ночь с 23 на 24 сентября 1942 года. При жизни поэт не опубликовал ни одной стихотворной строчки, однако его творческое наследие весьма значительно. Оно наиболее глубоко и полно характеризует героическое молодое поколение, почти целиком погибшее на фронтах войны за честь и свободу Родины.
Это же поколение дало русской литературе таких крупных поэтов, как Семен Гудзенко, Давид Самойлов, Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий, Николай Майоров, Булат Окуджава и др. Это были, по определению П. Когана, «мальчишки невиданной революции», воспитанные на идеалах социализма, готовые отдать жизнь за свои убеждения. Павел Коган, без сомнения, мог стать одной из главных фигур советской поэзии. Об этом свидетельствуют его замечательные стихотворения «Гроза», «Обвал» и другие. И всё же поэт никогда не будет забыт, ему суждено «через много лет опять ожить в блеске чьих-то глаз».
Не успел вырасти в значительного писателя и погибший при освобождении Новороссийска Анатолий Луначарский. Родился он в 1911 году Париже в семье будущего первого советского народного комиссара культуры А. В. Луначарского. Анатолий получил прекрасное образование, знал иностранные языки, неплохо рисовал, тонко разбирался в искусстве. Начав работать в 1933 году в качестве литературного сотрудника, он написал цикл новелл «Солнце вваливается в дверь» и роман «О, юность, юность!». В журналах публиковались его статьи о театре. С первых дней войны писатель стремился на фронт и добился назначения на Черноморский флот. Его очерки, рассказы, стихи, басни часто появлялись на страницах фронтовой печати.
Анатолий работал в многотиражных фронтовых газетах, защищал Севастополь, на канонерской лодке «Красная Грузия» участвовал в десантных операциях в Южной Озерейке и Станичке под Новороссийском. Погиб он за четыре дня до освобождения города, причём последние полтора дня своей жизни находился около Каботажной пристани, где шли наиболее ожесточённые бои с фашистами. Луначарский одновременно был и бойцом, и политработником, и писателем. Смерть помешала ему завершить работу над пьесой о моряках-черноморцах и романом о боях за Крым.
На Малой земле побывал специальный корреспондент газеты «Известия» поэт и драматург Анатолий Софронов, посвятивший, её защитникам стихотворение «Письмо с Мысхако», в котором героическая патетика тесно переплетена с лирическим началом. После освобождения города от фашистов Софронов создал солдатскую походную песню «Цемесская бухта». В 1969 году писатель вновь обратился к этой теме, создав пьесу «Цемесская бухта».
Подвиг штурмовых частей под Новороссийском вдохновил на создание «Марша 55-й гвардейской дивизии» известного советского поэта Илью Сельвинского. С первых дней войны Сельвинский находился в рядах Красной Армии, участвовал в боях за Кавказ и Крым, был ранен и контужен. Военные стихи Сельвинского — примечательная страница советской фронтовой поэзии.
Один из боёв за Новороссийск описал в стихотворении «Новороссийский вокзал, 1943 г.» поэт-фронтовик Григорий Корин. Его стих тоже был на вооружении малоземельцев. Их ратный труд воспет в произведениях, которые создавались не в тиши уютных кабинетов, а на передовой, в окопах и блиндажах, под обстрелом врага. Авторы этих песен и стихов — сами воины-малоземельцы, запечатлевшие в слове самоотверженный героизм и силу — духа защитников Родины.
Побывали под Новороссийском писатели Борис Горбатов и Леонид Соболев. Выдающийся писатель-маринист Л. С. Соболев (1898 — 1971 гг.), автор романа «Капитальный ремонт», создал очерк «Зубковская батарея» о боевых подвигах советских артиллеристов, державших под прицелом всю Цемесскую бухту. Знакомство с моряками-катерниками, осуществлявшими высадку и поддержку десанта на Малой земле, послужило ему материалом для военно-приключенческой повести «Зелёный луч». Ратным свершениям морских пехотинцев в сражении за Новороссийск посвящён очерк П. А. Павленко «Моряки в горах». В освобождении Новороссийска участвовал Аркадий Алексеевич Первенцев (1905-1981 гг.), впоследствии автор романа «Кочубей». На материале фронтовых наблюдений он создал очерк «Гвардейские высоты», рассказывающий о боях за Новороссийск. Сражался за этот город также видный кубанский поэт Иван Варавва. Из числа воинов-малоземельцев вышли такие известные писатели, как Ф. Монастырёв, С. Борзенко, Г. Соколов.
Наиболее значительной книгой о подвиге Новороссийска в годы Великой Отечественной войны следует считать произведение Г. В. Соколова «Малая земля» (при переиздании — «Мы с Малой земли»). Георгий Владимирович Соколов (1911-1984 гг.) родился в поселке Кочкарь Челябинской области. Он работал на строительстве Магнитогорского металлургического комбината и как активный рабкор получил направление в газету «Вперёд», стал журналистом и до 1939 года трудился в газетах Урала, Дона и Кубани. Затем начался его путь воина. Он участвовал в штурме линии Маннергейма, с первых дней Великой Отечественной войны служил в Черноморском флоте, участвовал в обороне Севастополя. Отдельная рота разведчиков 165-й стрелковой бригады под командованием Соколова высадилась у Станички сразу вслед за отрядом майора Ц. Л. Куникова. Соколову довелось участвовать в ночных рейдах и яростных рукопашных схватках. «Ночью хожу в разведку, а днем делаю газету», — читаем в его воспоминаниях. До самого окончания боевой страды на Малой земле журналист-воин находился в самом пекле сражений. На его глазах свершались незабываемые героические события. В то время Соколов не мечтал стать писателем, но вёл записи в дневнике, который утонул во время сентябрьского штурма Новороссийска, когда был подбит катер с нашими воинами. Соколов об этом эпизоде своей жизни вспоминал:
«…нам пришлось четыре часа при шестибаллыюм шторме болтаться в воде, пока нас не подобрал другой катер. Нас было на борту сорок шесть, а спаслось только пять…».
Пройдя фронтовой путь до Берлина, после войны Георгий Владимирович взялся за перо, считая своим долгом рассказать о подвиге своих боевых товарищей-малоземельцев:
«Только бы не забыли люди этих парней. Нельзя их забывать. Это было бы святотатством».
В 1949 году вышло первое издание книги «Малая земля» с посвящением: «Памяти моих боевых товарищей, погибших в боях на Малой земле». После её выхода к Соколову хлынул поток писем от ветеранов боев за Новороссийск. Писатель начал поиск новых материалов и оставшихся в живых малоземельцев.
Книга пополнялась новыми очерками, обретая черты документальной эпопеи. О своей работе над «Мы с Малой земли» Соколов писал:
«Годы не стёрли из памяти ни одного дня, ни одной ночи фронтовой жизни. Всё помнится. Всё!.. Мне и сейчас снятся боевые товарищи, рукопашные схватки, бомбёжки. И просыпаешься в тревоге, торопливо закуриваешь и стираешь со лба холодный пот… Мы глядим на гривастые волны, и нам кажется, что вот-вот выйдут на берег моряки, молодые, красивые, весёлые… Неукротимые в бою, матросы любили в часы досуга спеть, пошутить, сплясать под гитарный перебор. Эти ребята любили жизнь, не было людей жизнерадостнее их. Я не замечал в своих товарищах бравирования жизнью — дескать, вперед, полундра, жизнь нам не дорога. Всем была дорога! Но шли матросы в атаку — и многим из них приходилось расставаться с жизнью. Более глубокое чувство, чем желание выжить, было у них. Это чувство — любовь к Родине, долг перед своим народом».
Книгу Соколова невозможно переоценить. Она обладает высокими художественными и воспитательными качествами. На её страницах как бы продолжают сражаться с фашизмом и совершать подвиги советские воины, защитники и освободители Новороссийска. Произведение Г. В. Соколова следует отнести к жанру художественно-документальной эпопеи. Книга состоит из различных по величине художественных очерков. Так, очерки «Морское братство», «Сказание о матросе Кайде», «На безымянной высоте» приближаются к жанру повести, а раздел «Из вахтенного журнала Малой земли» составлен из очерков-миниатюр. Многие очерки («Морской закон», «Когда дул норд-ост», «У юнги тоже сердце моряка», «За час до смерти» и другие) по своим жанровым особенностям от рассказов отличаются лишь тем, что в них описываются реально происходившие события. Писатель создал яркие образы героев-малоземельцев: адмирала Холостякова, майора Куникова, капитан-лейтенанта Ботылева, матроса Кайды, юнги Вити Чаленко. Дважды на страницах книги появляется полковник Брежнев. С особой теплотой и восхищением Соколов писал о героинях Малой земли: «рыжей полундре» Марии Педенко, враче Марии Голушко, почтальоне Клавочке, санинструкторах Ане Жуковой, Вере Колодей, Ире Филипповой. В книге представлены образцы флотского фольклора — песни и стихи малоземельцев, созданные на передовой.
Несмотря на известные цензурные ограничения, Соколов сумел донести до читателя горькую правду о войне и об истинной цене Победы. Его книги стоят в одном ряду с самыми значительными произведениями о Великой Отечественной войне и будут востребована новыми поколениями читателей.
Г. В. Соколов также является автором большого романа «Нас ждёт Севастополь» и военных повестей «Юнга Черноморского флота» и «Ей было шестнадцать», обеспечивших ему заметное место в литературной баталистике.
Писал о подвиге Новороссийска и Герой Советского Союза Сергей Александрович Борзенко (1909-1972 гг.). Его творческая судьба похожа на судьбу Соколова. Родился Борзенко в Харькове. Работал на заводах, затем в областной газете. В самом начале войны он выехал на фронт корреспондентом армейской газеты «Знамя Родины» и в этом качестве прошёл весь фронтовой путь. Борзенко воевал под Житомиром и Тернополем, высаживался с десантом на Керченский полуостров, штурмовал Прагу и Берлин. Свой подвиг он совершил в ночь на 1 ноября 1943 года во время высадки в Крыму 318-й стрелковой дивизии, став одним из первых писателей и журналистов, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза.
Серия книг «Подвиг» после войны пополнилась однотомником Сергея Борзенко «Огни Новороссийска», в котором очерки расположены в хронологическом порядке. Огненное дыхание войны ощутимо веет со страниц книги. Писатель ничего не придумывает, вместе с ним мы проходим пыльными дорогами войны, слышим тяжёлую канонаду орудий, видим страдания, которые принесли нашему народу фашистские захватчики. Значение книги состоит в её достоверности: Борзенко рассказывает не только о героизме наших воинов, но и о непомерных тяготах, выпавших на их долю. Центральное место в книге занимает очерк, написанный автором на Малой земле и посвящённый 83-й бригаде морской пехоты. Он рассказывает о боевом пути прославленного подразделения и состоит из четырёх частей: «Рождение», «В горах Кавказа», «Морской десант» и «Малая земля». До последних дней своей жизни Борзенко не порывал связи с Новороссийском, регулярно приезжал в этот город, встречался с читателями и ветеранами.
2.1.3. Подвиг защитников Новороссийска в послевоенной литературе
О сражениях за Новороссийск написано огромнее количество мемуарных произведений, поток которых особенно усилился после публикации в 1978 году книги Леонида Ильича Брежнева «Малая земля». Пройдя через цензуру, эти мемуары, редко имевшие художественную ценность, утрачивали и правдивость. Поэтому они кажутся написанными одним и тем же человеком по некой заданной кальке на близкие по содержанию темы. И всё же некоторые книги 1970-80-х годов представляют значительный интерес. К ним можно отнести мемуары уроженца нашего города прославленного летчика-истребителя генерала Е. А. Савицкого и вице-адмирала Г. Н. Холостякова.
Не следует также пренебрежительно относиться и к произведению Брежнева. И хотя «Малая земля» генерального секретаря КПСС не обладает особыми художественными качествами и представляет собой добротную публицистику, эта книга разошлась по всему миру многомиллионными тиражами и объективно способствовала увековечению подвига его боевых товарищей.
В книге «Малая земля» 44 страницы, в сборнике «Воспоминания» она идёт как его третья глава. Из нее читатель узнает, что в ночь с 3 на 4 февраля 1943 года отряд морской пехоты 18-й армии численностью 271 человек захватил плацдарм «Малая земля» на берегу Цемесской бухты. Его оборона продолжалась 225 дней, а в сентябре войска перешли в наступление и 16 сентября 1943 года город Новороссийск был освобождён.
Начальник политотдела 18-й армии полковник Брежнев много раз на десантных кораблях переправлялся на плацдарм, под огнём противника высаживался на берег, лично участвовал в боевых действиях на передовой, заменил погибшего пулемётчика и огнём сдерживал идущего в атаку противника, пока ему не пришли на выручку подоспевшие бойцы.
Брежнев описывает героизм советских бойцов, бытовые трудности, вспоминает боевых друзей. В последней главе Брежнев упоминает о героическом пути, который прошла 18-я армия, рассказывает о Параде Победы, в котором он принял участие.
Некоторые эпизоды «Малой земли» написаны динамично и без всякого преувеличения личных заслуг автора:
«Чем ближе подходили к Цемесской бухте, тем сильнее нарастал грохот боя… В любую минуту мы ожидали удара, и тем не менее удар оказался неожиданным Я даже не сразу понял, что произошло. Впереди громыхнуло, поднялся столб пламени, впечатление было, что разорвалось судно. Так оно, в сущности, и было: наш сейнер напоролся на мину. Мы с лоцманом стояли рядом, вместе нас взрывом швырнуло вверх…
Упал, к счастью, в воду, довольно далеко от сейнера. Вынырнув, увидел, что он уже погружается. Часть людей выбросило, как и меня, взрывом, другие прыгали за борт сами. Плавал я с мальчишеских лет хорошо, всё-таки рос на Днепре и в воде держался уверенно. Отдышался, огляделся, увидел, что два мотобота, отдав буксиры, медленно подрабатывают к нам винтами…
Держась рукой за привальный брус, мы помогали взбираться на борт тем, кто под грузом боеприпасов на плечах с трудом удерживался на воде. С бота их втаскивали наверх. И ни один, по-моему, оружия не бросил».
Начальник политотдела полковник Брежнев более 40 раз побывал на Малой земле, всякий раз рискуя жизнью и проявляя личное мужество в боях с фашистами. Генеральный секретарь КПСС не претендовал на писательские лавры, преподнесённые ему услужливыми лизоблюдами, в значительной степени дискредитировавшими его честные и незамысловатые воспоминания.
Десятки страниц займёт один только перечень произведений местных авторов о сражении за Новороссийск. Но среди тех, кто сполна отдал долг памяти погибшим героям, необходимо особо отметить Владимира Фёдоровича Ерёменко. Его по праву называли новороссийским Сергеем Смирновым[40]. Слова «Никто не забыт! Ничто не забыто!» он сделал девизом своей жизни и кропотливо собирал материалы о подвигах защитников Кубани и Новороссийска. Много проникновенных, искренних стихотворений посвятили ратной доблести малоземельцев кубанские поэты Иван Варавва, Кронид Обойщиков, Виктор Подкопаев, Виталий Бакалдин.
2.1.4. Тема войны в произведениях современных писателей Новороссийска
Военная тема всегда была одной из главных в творчестве новороссийских авторов. Так, Борис Шамшин написал лиро-эпическую поэму «Легендарная земля», циклы стихотворений о войне принадлежат перу Михаила Глинистова, Эдуарда Кайры, Евгения Цыганко, Сеитумера Эмина, Сергея Коняшина.
К событиям той грозовой поры обращались многие новороссийские прозаики В. С. Лохматов, В. Н. Заярский, А. К. Ерёменко и др. Украинский журналист Виктор Иванович Савченко, который в годы войны был воспитанником отряда особого назначения Новороссийской военно-морской базы и связным командира роты автоматчиков участвовал в двух десантных операциях, написал документальные книги «Куниковцы» и «О Цезаре Куникове и его соратниках», продолжив традиции произведения Георгия Соколова «Малая земля».
Из документально-исторических исследований местных авторов, посвящённых боям за Новороссийск, следует выделить книги Тамары Ивановны Юриной «Новороссийское противостояние» и Виктора Андреевича Буравкина «Новороссийская трагедия» и «Защитники Генуэзской башни».
Презентация последних планировалась в канун Дня Победы 2020 г. (75-летний юбилей Победы СССР в ВОВ), однако по разным причинам не состоялась к сроку, поэтому автор решил представить свои произведения между двумя датами, связанными с историей Великой Отечественной войны: 9 мая и 22 июня 2020 г.
В документальной повести «Защитники Генуэзской башни» рассказывается о подвиге новороссийского пионера-героя Вити Новицкого, который в первых числах сентября 1942 года, когда фашисты ворвались в его родной город, с горсткой моряков оборонял башню на Октябрьской площади. Когда взрослые защитники погибли, 14-летний подросток сам лег за пулемет. Враги обошли башню с тыла и схватили мальчишку. Озлобленные нацисты облили Витю бензином, подожгли и сбросили с башни. Этот подвиг Вити Новицкого увековечен в названиях улиц и кораблей, а у скромного памятника на месте гибели юного защитника Новороссийска и сегодня школьники несут вахту памяти.
Сам же автор, Виктор Буравкин, еще в юности был одним из первых членов и капитанов «Шхуны ровесников» — молодежного литературно-патриотического объединения, созданного журналистом и писателем Константином Ивановичем Подымой. Еще в середине 1960-х годов «шхунатики» (члены «Шхуны…») не только основали ставшую теперь Всероссийской операцию «Бескозырка», но и установили имена многих героев-защитников города, в числе которых был и Витя Новицкий. Поэтому для убеленного сединой ветерана «Шхуны», как он рассказал на презентации, тема подвига подростка стала едва ли не главной в его творчестве, и к ней он возвращается не впервые, дополнив новое произведение художественным осмыслением героических событий обороны Новороссийска.
В сборнике очерков В. Б. Пахомова «Трагедии восточноевропейских морей» повествуется о драматических эпизодах боевых действий на Черном, Балтийском, Баренцевом морях в годы Второй мировой войны. Отдельные очерки посвящены схваткам отечественных и германских эскадренных миноносцев, судьбам финских броненосцев береговой обороны, операциям торпедных катеров и подводных лодок. Большое внимание уделено потоплению немецких транспортов «Тотила» и «Тейя», а также разгрому конвоя БД-5, повлекшим огромные человеческие жертвы. При написании книги Виктор Пахомов, писатель-маринист, поэт и публицист, использовал новейшие исследования российских и зарубежных историков флота. Книга выпущена в серии «Библиотека новороссийской маринистики» и стала ее 20-м томом.
Представляя свою книгу, Виктор Борисович пояснил:
«В советские времена была тенденция несколько преувеличивать подвиги наших действительно героических воинов, когда один подводник топил десятки кораблей противника и тому подобное. Затем на смену советскому подходу пришел так называемый либеральный, когда, наоборот, все самые известные подвиги стали называть мифами. Теперь же у нас есть возможность объективно освещать события Великой Отечественной войны, используя достоверные архивные материалы. И о советском флоте периода войны написано уже немало толковых книг. Среди них немало очень интересных исторических исследований, но интересных для специалистов, а не для широкого круга читателя. Я же попытался оживить наукообразный подход к боевым действиям на восточноевропейских морях, выбрав для описания малоизвестные факты».
Сборник повестей «Возвращение» Александра Хрюкова рассказывает о трудных судьбах русских людей, в трагических условиях Великой Отечественной войны, оказавшихся перед жестоким нравственным выбором. Произведения, составившие сборник, основаны на реальных событиях. В повести «Возвращение» автор Александр Хрюков, описывая жизненный путь героини, в силу обстоятельств вынужденной в оккупированном Новороссийске пойти на службу фашистским властям, а затем оказавшейся в эмиграции, изображает ее страдания, тоску по родине, стремление вернуться к матери.
«У войны есть и женское лицо, — считает Александр Хрюков, всю жизнь посвятивший служению в Вооруженных силах России. — Именно на женские плечи выпадает вся тяжесть нравственных страданий, духовной борьбы за существование и продолжение рода. Тогда как на мужские плечи выпадают физические страдания, но мужчина в принципе готов к тому, что ему надо идти на войну, защищать отчий дом и свою семью, а на войне он может быть убит или искалечен».
Однако и у мужского лица войны есть свои невероятные гримасы. Так, герой повести «Покаяние» пытается найти тонкую грань между расстрелом и убийством. Он должен расстрелять своего боевого товарища, который спас ему жизнь, которого он только что наградил орденом, а теперь должен выполнить приказ и лишить его жизни за совершенную воинскую провинность. Приказ о расстреле — это требование государственных законов, тем более законов военного времени. Но лишение человека жизни является нарушением шестой заповеди Бога: «Не убий». Законы государства с течением времени меняются, а законы Божьи существуют тысячелетия и будут существовать вечно, — мучительно размышляет главный герой…
Выводы к § 2.1.
Достижения новороссийских прозаиков, если судить по количеству изданных книг, весьма значительны. Проза Новороссийска характеризуется жанровым многообразием и спецификой художественных приёмов. Тематически она связана с прошлым и настоящим как непосредственно Новороссийска, так и Черноморья в целом. Особенно плодотворно развивается маринистика. Авторы в основном ориентируются на достижения отечественной прозы, а также на романтические традиции южнорусской литературной школы. В частности — на творчество К. Г. Паустовского, А. С. Грина, одесских писателей и др.
В отдельных книгах новороссийских прозаиков чувствуется влияние мастеров западноевропейского неоромантизма: Роберта Стивенсона, Джозефа Конрада, Джека Лондона и др. В последнее время некоторые авторы пытаются создавать произведения детективного, мистического и приключенческого содержания, востребованные широкой публикой.
Постмодернистские тенденции в новороссийской прозе проявились в очень незначительной степени, что объясняется, вероятно, возрастом ведущих местных писателей. В центре их внимания — человек, его связь с историей и обществом. Характеры героев зачастую раскрываются в критических обстоятельствах социальных потрясений, военных испытаний и борьбы с разбушевавшейся стихией. Однако несмотря на такие драматические коллизии, произведения новороссийских прозаиков проникнуты оптимизмом, верой в силу духа людей отважных и бескорыстных, готовых идти на смертельный риск ради высоких идеалов. Колоритный юмор, особая южная лексика, впечатляющие художественные картины жестоких сражений и бурных штормов придают новороссийской прозе, как будто овеянной свирепым норд-остом истории и романтическим зюйд-вестовым «моряком», особую притягательную силу и убедительность.
Значительная часть произведений новороссийских авторов посвящена теме Великой Отечественной войны. Тот факт, что уже много лет отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945), не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего поколения к далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского солдата — героя, освободителя, гуманиста. Меткое слово новороссийских писателей органично вливается в общероссийскую литературную рукопись о той войне. Яркие героические образы бойцов и командиров, вдохновлявшие воинов на подвиги, ведшие армию к победе, до сих пор не сходят со страниц военных повестей и романов новороссийских авторов. Эти произведения и сегодня полны патриотического звучания. Они поэтизируют служение родине, утверждают красоту и величие моральных ценностей. Как и во всей России, в Новороссийске произведения местных авторов о Великой Отечественной войне составляют своеобразный «золотой фонд».
На смену признанным мастерам в новороссийскую литературу приходят молодые талантливые авторы. С 1994 года работает творческий семинар «Юная литература Новороссийска», который проводится местной организацией Российского союза профессиональных литераторов. За время работы этого мероприятия рассмотрено более 1500 художественных произведений начинающих поэтов, прозаиков и литературоведов, более 200 авторов отмечены грамотами, именными стипендиями и специальными призами. Участники семинара выпустили более 20 книг, публиковали свои произведения в краевой и центральной прессе. Четверо из них были приняты в Российский союз профессиональных литераторов, трое награждены Премией «Серебряный фрегат». Автор романа «Последний рубеж» С. Коняшин в юном возрасте (1997 г.) стал лауреатом этого семинара.
В то же время — в силу исторически незначительного возраста города — в Новороссийске пока не успели сложиться прочные и глубокие литературные традиции. Существенно отстают от развития художественного процесса критика и литературоведение Новороссийска. Вместе с тем новороссийская литература продолжает своё течение, неуклонно расширяя русло, пополняясь новыми значительными произведениями, преодолевая препоны обывательской бездуховности и нагромождения графоманского мусора. И военная проза, одним из лучших примером которой является роман «Последний рубеж», во многом выступает двигателем этого процесса.
§ 2.2. Роман «Последний рубеж» как яркий пример современной русской военной прозы
Аннотация романа «Последний рубеж» Сергея Коняшина гласит:
Сентябрь 1942 года. Войска гитлеровской Германии и её союзников неудержимо рвутся к кавказским нефтепромыслам. Турецкая армия уже готова в случае их успеха нанести решающий удар по СССР, поражение которого в войне уже видится неизбежным.
Стремительное продвижение немецко-румынских оккупантов в Закавказье неожиданно останавливается у Новороссийска, почти полностью стёртого с лица земли в результате ожесточённых боёв. Для защитников и жителей этого небольшого черноморского города разрушенные врагами улицы становятся последним рубежом, на котором предстоит сделать единственно правильный выбор – победить любой ценой или потерять всё.
Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся военной литературой и историей Второй мировой войны. Она повествует о героических страницах легендарного Новороссийского противостояния 1942-1943 годов, коренным образом переломившего ход битвы за Кавказ в пользу СССР и, как следствие, предрешившего итог всей войны в пользу антигитлеровской коалиции.
2.2.1. Творческий и трудовой путь автора «Последнего рубежа»
Автор романа Коняшин Сергей Сергеевич — российский журналист, социолог, публицист, писатель, поэт, дипломат-арабист. Он родился 26 августа 1983 года в городе Гулькевичи Краснодарского края (РСФСР, СССР) в семье военного моряка и школьной учительницы.
I. Образование
В 1992 году после окончания Сергеем первого класса школы № 276 города Мурманск-130 (по месту службы отца) их семья переезжает в Новороссийск. Сергей продолжает учебу в школе №20 этого города, которую оканчивает в 2000 году с золотой медалью. В том же году поступает в МГИМО (У) МИД РФ на Факультет международной журналистики.
Во время учебы стажировался в Службе новостей ИТАР-ТАСС[41] (июнь-июль 2001 года), участвовал в гуманитарных экспедициях на Соловецкие острова, был ответственным за специальные выпуски литературно-исторического альманаха «Тишина Соловков» (2002—2005 гг.).
В 2003—2005 гг. работал внештатным корреспондентом крупных московских и региональных печатных изданий. Среди них — «Огонек», «Международник», «Версия», «Московские новости», «Голос Чеченской Республики», «Миг», «Воскресенье» и др.
С января по июнь 2005 года проходил преддипломную практику в Отделе корреспондентов центрального федерального телеканала «Россия» и Департаменте информации и печати МИД России.
В 2005 году окончил факультет МЖ МГИМО (У) МИД РФ по специальности «Журналист-международник со знанием иностранных языков». Владеет арабским и английским языками; на базовом уровне — французским (начал изучать во время работы в Алжире) и испанским.
С ноября 2005 года проходил обучение в аспирантуре на кафедре социологии МГИМО (У) МИД РФ. Однако в мае 2008 года прервал его с правом восстановления и дальнейшей защиты диссертации. Во время обучения в аспирантуре занимался изучением технологий и закономерностей воздействия социальных стереотипов на общественное мнение и массовое сознание методами «мягкой пропаганды» и «фактологической пропаганды» на примере телевизионных СМИ.
II. Трудовая деятельность
После получения диплома о высшем образовании — с июля 2005 года по июнь 2006 года — Сергей Коняшин работал корреспондентом военного телеканала «Звезда» (Центральная телевизионная и радиовещательная студия Министерства обороны России). В июле 2006 года назначен редактором Департамента информационных программ ОАО «Первый канал» («Новости», «Другие новости», «Время», «Воскресное время»), где работал до августа 2010 года.
С августа 2010 года по сентябрь 2013 года командирован в Йемен в должности секретаря-референта, а затем атташе (с августа 2011 г.) посольства России в г. Сана и Генерального консульства России в г. Адене. Принимал участие в мероприятиях по эвакуации граждан России и СНГ в периоды обострения внутриполитической нестабильности в Йеменской Республике в 2011—2013 гг.
С октября 2013 года по ноябрь 2014 года — сотрудник Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России (г. Москва).
С ноября 2014 по ноябрь 2018 года командирован в Судан, где занимал должность сначала третьего, а затем второго (с ноября 2016 года) секретаря посольства России в Судане (г. Хартум). Исполнял обязанности пресс-секретаря посольства. Был членом рабочей группы по мониторингу процесса мирного урегулирования ситуации в Дарфуре, в этом качестве неоднократно принимал участие в «полевых выездах» делегаций Комитета 1591 Совета Безопасности ООН в Дарфурский регион.
С апреля 2019 года по апрель 2021 года являлся заведующим консульским отделом посольства России в Алжире (г. Алжир).
С июня 2021 года по настоящее время Сергей Коняшин работает переводчиком в морской инвестиционно-экспортной компании ООО «Русский Тоннаж» (г. Новороссийск) и одновременно преподает в нескольких школах города Новороссийска английский язык, журналистику и основы творческой деятельности.
III. Литературное творчество
Ещё в старших классах школы Сергей Коняшин увлекся журналистикой. Был постоянным автором школьной ежемесячной газеты «Парус», а в последних классах школы (1999-2000 гг.) — внештатным корреспондентом городских многотиражных газет «Вечерний Новороссийск» и «Новороссийский рабочий».
Публиковался в литературных сборниках города Новороссийска. Во время учебы в вузе издал несколько сборников своих стихов.
В 2017 году перевел с арабского языка повесть «Мятежницы» йеменской поэтессы Ш. Х. Атыфы.
В 2018 году был издан военный роман Сергея Коняшина «Последний рубеж», посвященный событиям 1942—1943 гг. в Новороссийске. В 2020 году вышло переработанное второе издание. Роман переведен на итальянский язык.
Член Союза журналистов России с марта 2003 года и Новороссийского городского исторического общества с октября 2021 года.
IV. Библиография
К основным произведениям, определяющими научный, творческий и публицистический путь С. С. Коняшина можно отнести нижеследующие.
Социология
- Телевизионная технология воздействия на общественное мнение как культурный феномен. Сборник научных трудов кафедры социологии МГИМО «Социальные и культурные процессы в начале XXI века» — Издательство «МГИМО-Университет», выпуск № 4, 2007
- Стереотипизация общественного мнения как российский метод мягкой пропаганды. Сборник материалов международной научно-практической конференции Института гуманитарного образования и информационных технологий «Журналист XXI века», 2008
- Стереотипы массового сознания в телевизионной журналистике. Сборник научных трудов кафедры социологии МГИМО «Социальные и культурные процессы в начале XXI века» — Издательство «МГИМО-Университет», выпуск № 4, 2009
- Стереотип в контексте современных медиа. Журнал «Социология», выпуск № 1-2, 2009
- Современные парадигмы исследования социальных стереотипов. Журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», выпуск № 4, 2009
- Социальный стереотип в телевизионной информационной службе. Журнал Московского института социально-культурных программ «Поиск», выпуск № 2 (26), 2010
- Информационное телевидение в политическом процессе постсоветской России. Монография. — М: Издательство РСП, 2016
- Стереотипы в информационно-новостном управлении общественным мнением (на примере телевизионных СМИ). Монография — М: URSS, 2017.
Публицистика
- Погибаю, но не сдаюсь. Исторический очерк. Газета «Воскресенье», № 24 (98), 2003
- Пионер-герой-42. Исторический очерк. Газета «Версия», № 32 (205), 2002
- Легионер из Чечни. Исторический очерк. Газета «Голос Чеченской Республики», № 4 (21076), 2003
- Над куполами и лабиринтами. Путевые заметки о путешествии на Соловецкие острова. Альманах «Новороссийск литературный», выпуск № 1 (3), 2003
Поэзия
- Опустошение. Сборник стихов. — Новороссийск, 2004
- Пепел Хорезма. Историческая поэма. — Новороссийск, 2005
- Предисловие. Сборник стихов. — М: Издательство «Авторская книга», 2014
- Бригантина в песках. Сборник стихов. Издательство (Издательская Интернет-платформа) «ЛитРес», 2021
Проза
- Последний рубеж. Военный роман. — М: Издательство РСП, 2018; 2-е издание: Издательство АО «Новороссийская Типография», 2020
- Рассказы студенческих лет. Сборник. Издательство (Издательская Интернет-платформа) «ЛитРес», 2021
- Соловецкие этюды. Публицистический сборник. Издательство (Издательская Интернет-платформа) «ЛитРес», 2022
Переводы
- Упрёк и угрозы. Четвёртая касыда из поэтического цикла «По дороге к заре» йеменского поэта А. аль-Бараддуни (перевод с арабского). Сборник «Предисловие», 2014
- Мятежницы. Повесть йеменской поэтессы Ш. Х. Атыфы (перевод с арабского). — М: Издательство РСП, 2017
2.2.2. История появления романа «Последний рубеж»
Вдохновителем идеи создания «Последнего рубежа» стал другой русский писатель и кинодраматург — тоже уроженец Новороссийска — Константин Иванович Подыма. Сергея Коняшина связывали с ним многолетняя дружба и тесное творческое сотрудничество.
Первые наброски романа были сделаны в 2011-2012 гг. в Йемене, где С. С. Коняшин служил в должности атташе российского посольства в г. Сана и генерального консульства в г. Аден. Однако сильная занятость в качестве дипломата и отсутствие необходимой справочной литературы вдали от родины не позволили в то время писать книгу полноценно.
Рассчитывая на литературное наставничество и помощь старшего друга в России, С. С. Коняшин отложил работу над романом до возвращения из Йемена. Однако скоропостижная кончина кинодраматурга в Москве за полгода до завершения командировки (2013 г.) спутала его планы. Посчитав поставленную перед собой творческую задачу неосуществимой без поддержки К. И. Подымы, С. С. Коняшин прекратил работу над произведением.
В 2015 году во время очередной заграничной командировки по линии МИД России в Хартум (Судан) писатель, изучив дополнительные материалы и переосмыслив концепцию романа, вернулся к работе над «Последним рубежом».
Некоторые главы были написаны в сентябре-октябре 2016 г. на Кубе.
В черновом варианте произведение было завершено в декабре 2016 г.
В течение 2017 г. роман значительно дорабатывался — производилась дополнительная проверка исторических фактов, пересматривалась логика отдельных сюжетных ходов, сверялась соразмерность глав и эпизодов, вносились большие литературные и стилистические правки.
Предпринятые в 2017 году многочисленные попытки автора опубликовать роман не увенчались успехом. Ни одно из московских, краснодарских или других российских издательств, получивших рукопись, не заинтересовалось произведением.
Тогда к 75-летнему юбилею высадки десанта Ц. Л. Куникова на Малую землю (2018 г.) С. С. Коняшин опубликовал книгу в издательстве «РСП» за собственный счет минимально возможным тиражом в сто экземпляров. Семнадцать из них были зарезервированы Книжной палатой РФ для регистрации ISBN (специального книжного номера-идентификатора).
Больше половины оставшегося количества с февраля по ноябрь 2018 года автор разослал высшим должностным лицам Новороссийска, руководителям его крупных государственных и коммерческих предприятий, а также известным и влиятельным уроженцам города-героя, проживающим и работающим в Москве. К каждой книге с дарственной надписью и автографом прикладывалось сопроводительное письмо с просьбой рассмотреть вопрос о содействии в профессиональном переиздании «Последнего рубежа». Никто из адресатов на послания не отреагировал.
С ноября 2018 года по апрель 2019 года (период между командировками в Судан и Алжир по линии МИД России) автор находился в Новороссийске. Благодаря этому возник и начал расти интерес к роману среди представителей городской научной и творческой интеллигенции, которым были розданы остатки тиража первого издания. В некоторой степени этому также способствовали близкие отношения автора со многими из них.
В частности, с городской журналистской средой С. С. Коняшин был тесно связан со времен своей работы в 1997-2000 годах в школьном издании «Парус», ежедневных газетах «Новороссийский рабочий» и «Вечерний Новороссийск» (последняя давала ему рекомендацию для поступления на журфак МГИМО, в 2003 году переименована в «Малая земля»).
С Новороссийским отделением Краснодарской краевой организации Российского союза профессиональных литераторов, а также с не входящими в него писателями и поэтами, С. С. Коняшин поддерживал тесные творческие связи с 2002 года через участие в издании альманахов «Новороссийск литературный» и «Черное море» (в основном стихами и короткими рассказами).
Продуктивные отношения с Новороссийским городским историческим обществом (НГИО) начались с организации в библиотеке им. Э. Э. Баллиона в 2005 году презентации исторической поэмы «Пепел Хорезма». В нем, в частности, принял активное участие член НГИО В. И. Свидерский – близкий друг детства одного из главных героев «Последнего рубежа» пионера Виктора Новицкого, заживо сожженного фашистами на Октябрьского площади Новороссийска 8 сентября 1942 года.
В студенческие годы (2000-2005 гг.) сложилось знакомство С. С. Коняшина и с новороссийскими музыкантами. В первую очередь через рок-группу «Свидетель Non Grata», использовавшей в качестве текстов некоторых своих песен стихотворения из его первого сборника «Опустошение» (издан в Новороссийске в 2004 году). Гитаристом группы был сын сподвижника К. И. Подымы по литературно-патриотическому объединению «Шхуна ровесников». В 1968 году активисты «Шхуны…» основали военно-мемориальную акцию «Бескозырка», которая с тех пор ежегодно проводится в Новороссийске (посвящена описанным в «Последнем рубеже» событиям февраля 1943 года).
Интерес всех этих людей к роману способствовал достаточно быстрой его популяризации. Просьбы о получении или приобретении книги продолжили поступать и после того, как у автора остались лишь 15 отложенных в резерв экземпляров. Тогда С. С. Коняшин передал по две книги в три крупнейшие городские библиотеки (им. Н. К. Крупской, Э. Э. Баллиона и П. А. Павленко) и адресовал туда всех желающих.
Таким образом, в преддверии 75-летия Победы в 2020 году роман «Последний рубеж» уже имел достаточную популярность среди людей, увлекающихся военной прозой и историей Второй мировой войны.
В частности, в одной из новороссийских школ роман обсуждался на заседании литературного клуба «Читаем вместе». Собиравшаяся поступать в художественный вуз ученица этой школы Вера Зиппа заинтересовалась произведением и выполнила итоговую аттестационную работу по курсу «Изобразительное искусство» в виде иллюстраций к нему. Руководство школы и одна из городских типографий решили к юбилею окончания ВОВ переиздать роман с этими иллюстрациями. Таким образом в апреле 2020 г. в Новороссийске состоялось второе (существенно переработанное) издание романа.
Повторный выход книги из печати, совпавший по времени с вынужденным нахождением автора на малой родине из-за пандемии коронавируса, в очередной раз подхлестнул интерес к роману.
29 апреля 2020 года С. С. Коняшин и В. Зиппа стали почетными гостями урока мужества со старшеклассниками, посвященного обсуждению «Последнего рубежа» и роли защитников Новороссийска в разгроме немецкого фашизма.
29 мая 2020 года председатель Новороссийского городского исторического общества С. Г. Новиков представил книгу на заседании Художественного совета при главе города. Результатом его выступления стало распоряжение мэра Новороссийска И. А. Дяченко организовать работу по популяризации произведения в целях военно-патриотического воспитания молодежи и распространения знаний о героических страницах истории Кубани. Во исполнение его указаний 10 июня 2020 года в информационном выпуске «Время новостей» на региональном «Новороссийском Телевидении» вышел репортаж о «Последнем рубеже». В тот же день С. С. Коняшин стал гостем передачи «День города», где в формате большого развернутого интервью рассказал о своем произведении, истории и мотивах его создания.
В июле 2020 года директор Черноморского отделения Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Ю. В. Агишев в рамках своей работы по развитию культурного потенциала Кубани и сохранению ее исторического наследия обратился с письмом на имя губернатора Краснодарского края В. И. Кондратьева. В нем он среди прочего просил рассмотреть вопрос о возможности профинансировать за счет регионального бюджета перевод «Последнего рубежа» на английский или французский язык с тем, чтобы использовать роман во взаимодействии с иностранными партнерами для популяризации знаний о мемориальных объектах и памятниках Новороссийска на международном уровне.
В 2021 году фрагмент «Последнего рубежа» был выбран жюри VII Черноморского международного конкурса перевода маринистики в качестве обязательной программы для конкурсантов.
2.2.3. Популяризация романа за пределами России
К настоящему времени роман получил широкую известность и нашел своего читателя не только за пределами Новороссийска, но и в других странах.
I. Алжир
По случаю Дня Победы в 2019 году два экземпляра романа были презентованы автором Ассоциации российских соотечественников в Алжире (в лице ее председателя О. Л. Кайдановской) и старшему преподавателю кафедры русского и турецкого языков Университета Алжир-2 Зину Бен Отману. Последний активно использует фрагменты произведения на занятиях по литературному переводу с алжирскими студентами-русистами.
Магистрантка Университета Алжир-2 Халаф Рихаб (факультет арабской филологии, славянских и восточных языков; кафедра турецкого и русского языков) работает над диссертацией по теме: «Литературное восприятие Второй мировой войны на примере военного романа «Последний рубеж» русского писателя С. С. Коняшина».
II. Италия
В ноябре 2020 г. «Последний рубеж» был переведен на итальянский язык. В настоящее время доступен для скачивания в электронном виде на международных издательских Интернет-площадках: «Barnes & Noble», «Apple», «Kobo», «Scribd», «Tolino», «Streetlib», «Amazon», «Google Play» и «Inscribe».
III. Сирия
16 февраля 2021 года книга была презентована российским дипломатом А. Ф. Сафуковым в Дамаске председателю Генерального книжного совета при Министерстве культуры САР Таиру Зин-ад-Дину.
В том же году известный сирийский переводчик-русист Аднан Джамус начал работать над переводом романа на арабский язык для публикации его фрагментов в журнале «Культурные мосты».
IV. СНГ
Русская версия романа «Последний рубеж» в числе прочих книг С. С. Коняшина доступна на сайте «ЛитРес».
V. Судан
Несколько книг были распространены среди преподавателей русского языка и литературы Хартумского Университета и Университета Бахри в 2018 г.
VI. Критика
9 марта 2020 года журнал «Международная жизнь» (г. Москва) опубликовал на своем сайте рецензию Сергея Филатова на «Последний рубеж».
Преподаватель кафедры русского и турецкого языков Университета Алжир-2 Зин Бен Отман в своей статье «Алжирский рубеж новороссийского писателя» о восприятии алжирскими читателями романа «Последний рубеж» для журнала «Истоки» (планируется к публикации в 2022 г.) сравнил значение битв за Новороссийск и Алжир в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. для русского народа и Революционной Освободительной войны 1954-1962 гг. для алжирского народа соответственно. Обе из них, по его мнению, имеют в современной истории своих стран схожее значение:
«И та и другая – бесконечно долгий, жестокий и трудный путь к свободе и независимости, спасению себя как нации. Путь, который пролегал через осознание, что победа возможна лишь в подлинном единстве и искреннем героизме каждого солдата и гражданина. И обе войны – каждая, безусловно, по-разному, но тем не менее – в чем-то свой собственный последний рубеж, дальше которого невозможно было тогда отступить ни при каких исторических обстоятельствах».
2.2.4. Структура художественного образа романа «Последний рубеж»
В выступлениях и публикациях, посвященных «Последнему рубежу», автор отмечал, что всегда рассматривал свой роман в первую очередь как художественное, а не документально-историческое произведение. В предисловии к первому изданию (2018 г.) он сам прямо указывает на имеющиеся в тексте фактические несоответствия в описаниях обороны Новороссийска во второй половине 1942 года и десантной операции в посёлок Станичка (ныне – Малая земля) в начале 1943 года.
Предвосхищая упреки в слабом знании предмета, Сергей Коняшин подчеркивал, что на его взгляд «осмысленные и неизбежные в рамках творческого процесса изменения в описании отдельных событий или временных отрезков, не умаляющие величия боевого подвига защитников» Новороссийска не могут оскорбить их память. Ведь события тех лет хорошо документированы и довольно подробно изложены в военно-исторической литературе, поэтому каждый интересующийся легко может ознакомиться с ними.
Главное же назначение своей книги – как в первую очередь художественного произведения – С. С. Коняшин видел в том, чтобы:
«…ещё раз напомнить и как можно более правдиво показать читателю, насколько отвратительна и страшна в своей первобытной жестокости любая война, как неотвратимо и равнодушно отбирает она у каждого человека самое дорогое вне зависимости от его личных заслуг и качеств».
I. Правда и вымысел в романе
Решить поставленную творческую задачу автору помогло тесное сплетение в сюжете романа реальных и вымышленных событий. Художественная фабула «Последнего рубежа» неотделимо наложена на фактологический и хронологический бэкграунд конкретной исторической ситуации – тяжелого Новороссийского противостояния 1942-1943 гг. Две эти линии связываются воедино сложными отношениями между героями произведения. Одни из них (как и сюжетные ситуации, в которые они помещены) также полностью вымышленные, образы других – списаны с конкретных личностей той поры.
К числу персонажей «Последнего рубежа», имеющих прообразы среди реальных исторических лиц, относятся следующие:
- Витя Новицкий (1927-1942) – новороссийский подросток, погибший в боях с фашистами в сентябре 1942 г. на Октябрьской площади;
- Цезарь Куников (1909-1943) – майор морской пехоты, командир 305-го отдельного батальона морской пехоты, командир захватившего плацдарм «Малая земля» десантного отряда;
- Георгий Холостяков (1902-1983) – капитан первого ранга, контр-адмирал, командир Новороссийской военно-морской базы.
- Григорий Котов (1902-1944) – генерал-майор, командующий 47-й армией (с мая по сентябрь 1942 года);
- Рихард Руофф (1883-1967) – немецкий военачальник, генерал-полковник вермахта, командующий войсками 17-й армии (группа армий «А», южный фланг советско-германского фронта).
Полностью вымышленными главными героями романа являются:
- Андрей Новицкий – старший брат Вити Новицкого, сержант 305-го отдельного батальона морской пехоты;
- Эндель Мэри – эстонец, рядовой 305-го отдельного батальона морской пехоты;
- семья Щербаковых – возлюбленная Андрея Новицкого Полина, ее мать Анна Васильевна и брат Ваня (отец арестован и расстрелян в 1936 г.);
- Василий Буров – полковник НКВД, агент немецкой разведки;
- Альфред Шэффер – офицер вермахта.
II. Синопсис
Действие романа разворачивается в период с августа 1942 года по апрель 1943 года в Новороссийске и Геленджике. В центре сюжета – судьбы двоих бойцов 305-го отдельного батальона морской пехоты: новороссийца Андрея Новицкого и эстонца Энделя Мэри.
У Новицкого в захваченном немцами городе осталась вся семья (родители, младшие сестра и брат), а также любимая девушка Полина Щербакова со своими матерью и братом. Мэри – сын прибалтийских переселенцев, владеющий немецким языком. Из-за начала войны он не успел поступить на курсы военных переводчиков и добровольцем пошел в морскую пехоту.
Пролог
Сентябрь 1965 года. Выпускник Ленинградского Нахимовского военно-морского училища архангелогородец Андрей Прозоров, получивший распределение на Черноморский флот, приезжает на Малую землю под Новороссийском. В 1943 году здесь воевал его отец Ярослав. Местная девочка предлагает Прозорову «купить» у неё за четыре листика каштана старое кольцо с гравировкой: «Полине от Андрея», найденное её другом в земле.
Глава 1
Сентябрь 1942 года. Немцы захватывают Новороссийск. Младший брат Андрея Новицкого, забаррикадировавшись на втором этаже дома, вступает в бой с фашистами, чтобы дать возможность матери и сестре успеть на один из последних кораблей, эвакуирующих в Геленджик остатки вооружения, продовольствия, раненых солдат и гражданское население. Два часа ему удаётся сдерживать натиск немецкой роты с помощью пулемёта и гранат. Однако затем фашисты хватают его и сжигают заживо.
Глава 2
В давке в порту мать и сестра Новицкого встречают Щербаковых – Полину с матерью и младшим братом. Возбуждённая отходом одного из двух переполненных кораблей толпа растаскивает их в разные стороны. Матерей оттесняют к рыночной площади, на которой появляются немецкие танки. Под гусеницами одного из них гибнет Новицкая.
Девушки с мальчиком оказываются ближе к месту посадки на последний транспорт. Им удаётся забраться на него. Рассеяв людей в порту, немцы преследуют вдоль берега этот корабль, обстреливают и топят его. В море от фашистской пули гибнет сестра Новицкого. Полине с братом удаётся доплыть до их родного пригородного посёлка Станичка, где их встречает мать.
Глава 3
Командующий Новороссийским оборонительным районом генерал-майор Г.П. Котов приказывает командиру Новороссийской военно-морской базы Г.Н. Холостякову отбросить немцев на восточной окраине города. Не имеющий резервов, Холостяков лично возглавляет небольшой отряд из офицеров штаба своей базы. В первом же бою с многократно превосходящими силами противника он теряет больше половины людей и едва не погибает сам.
Отступая, Холостяков и оставшиеся в живых офицеры сталкиваются с направляющимся в Новороссийск 305-м отдельным батальоном морской пехоты, в составе которого – Андрей Новицкий и Эндель Мэри. Командир отменяет данный батальону приказ и предписывает занять оборону у цементных заводов – на последнем рубеже, который ещё можно удержать.
На оперативном совещании у Котова по возвращении в Геленджик Холостяков сталкивается с незнакомым ему офицером НКВД, который пытается остро критиковать его за отмену распоряжений вышестоящих командиров. Котов осаждает особиста и, сделав краткий обзор оперативной обстановки, добавляет, что после падения Новороссийска дальнейшее отступление русских войск на Кавказском направлении неизбежно повлечёт поражение СССР в войне.
Глава 4
305-й батальон вступает в неравный бой со стремительно рвущимися на восток немецкими войсками у новороссийских цементных заводов. Географические особенности Балки Адамовича, на которой расположены заводы, позволяют батальону в течение пяти дней сдерживать натиск нескольких гитлеровских дивизий. Численное преимущество фашистов теряет смысл на узкой полосе суши между горами и морем.
В решающий момент на помощь почти полностью истреблённому в тяжёлых боях батальону прибывает подкрепление – Холостяков успевает перебросить из грузинского порта Поти два полка 318-й стрелковой дивизии.
Глава 5
Тяжелораненые Новицкий и Мэри оказываются среди 42 выживших бойцов из 619 вступивших в бой. Засыпая на берегу моря в ожидании санитарной группы, Андрей вспоминает прошлогодний поход в горы двух семей – Новицких и Щербаковых.
Тогда, в мае 1941 года, желая разыграть Полину, он спрыгнул с края обрыва на вершине горы на расположенный ниже скалистый уступ и посмеялся над её испугом. Обиженная Полина перестала с ним общаться. В первый день войны (22 июня 1941 г.) сразу после школьного выпускного Новицкого призывают в армию.
Накануне ухода Андрея в десант под Одессу в конце августа 1941 года Полина приглашает его попрощаться. Они гуляют на моле и объясняются друг другу в любви, когда начинается немецкий авианалет. Взрывами бомб их сбрасывает в море. Полина получает ранение осколками в спину. Молодой человек вытаскивает её на берег и относит домой в Станичку. Матери девушки, работающей хирургом в городской больнице, удаётся спасти свою дочь.
На следующее утро Новицкий перед возвращением в воинскую часть навещает подругу и дарит ей на прощание собственноручно выточенное кольцо с гравировкой: «Полине от Андрея».
Глава 6
Октябрь 1942 года. К Холостякову приходит критиковавший его на совещании у Котова особист. Он представляется полковником НКВД Буровым, недавно получившим назначение в Геленджик для выявления немецких шпионов, и просит докладывать о подозрительной активности своих подчинённых.
Холостяков в свою очередь просит Бурова помочь ему с переводом документов убитого немецкого солдата, с которыми он намеревается послать на разведку в Новороссийск Энделя Мэри. Особист отвечает, что, несмотря на годы работы в посольстве СССР в Берлине, не успел выучить немецкий язык.
Холостяков идёт в госпиталь, где лечится Мэри, и предлагает ему принять участие в предстоящей разведывательной операции, предусматривающей отправку Энделя в тыл врага. Во время беседы Холостякова с Мэри Андрей просит разрешить передать с другом письмо для Полины в оккупированный немцами город. Холостяков решительно запрещает делать это.
Глава 7
Новицкий, имеющий опыт работы на заводе, определён слесарем в судоремонтный цех. Там он встречается со своим старым врагом – одноклассником Капустиным, человеком невысоких морально-волевых качеств, который в своё время безуспешно добивался расположения Полины Щербаковой. Капустин инструктирует Андрея по вопросам сборки торпед для боевых катеров.
Холостяков с помощью партизан доставляет Мэри с имитированными ранениями на горную тропу и оставляет на пути следования немецкого разведывательного отряда. В последний момент в кармане у того обнаруживается конверт, не предусмотренный планом операции (письмо Андрея Полине). Эндель объясняет это тем, что для подтверждения своей легенды разведчика он написал якобы из плена вымышленное предсмертное письмо родителям в Берлине на немецком языке. Не имея времени проверять, Холостяков оставляет конверт при нём.
Глава 8
Попав в Новороссийск, Мэри сталкивается с массовыми зверствами нацистов. Невольно присутствуя при насилии и убийствах русских девушек группой немецких солдат, он решает пожертвовать собой, чтобы защитить их. В последний момент он вспоминает прощальные наставления Холостякова, который просил его любой ценой вернуться с задания живым с необходимыми ему сведениями, и не выдает себя.
Глава 9
Патрулирующие Станичку немцы насилуют Полину, убивают пытавшегося защитить её брата и ранят их мать. На следующее утро девушка, решив отомстить, пробирается к стоящей у посёлка немецкой казарме, соблазняет и убивает часового, подпирает дверь бревном и поджигает деревянный барак. С помощью найденных рядом автоматов она пытается остановить немецкий патруль, прибывший на помощь запертым в горящей казарме солдатам, однако получает смертельное ранение.
Глава 10
Убив двоих немецких офицеров и забрав у одного из них секретную карту, Эндель бежит из госпиталя. По дороге он забивает насмерть фашиста, застрелившего двух русских детей, и переодевается в его форму. Выдав себя за немца, он обманывает преследователей и выбирается из города.
Глава 11
Переночевав в перелеске, Мэри приходит в обезлюдевшую Станичку. В одном из домов он находит молящуюся перед иконой женщину – мать Полины. Та рассказывает ему, что её дочь, пообещав отомстить за вчерашнее убийство брата, пропала ранним утром.
Эндель уходит на поиски девушки и оказывается втянутым в бой у догорающей казармы. Он помогает Полине отбиться от немцев, однако обнаруживает, что она уже смертельно ранена.
Глава 12
Отдав Полине письмо Андрея, Мэри везёт её на немецком мотоцикле к матери. По дороге девушка умирает. Когда Эндель заканчивает хоронить её во дворе дома рядом с могилой брата, в посёлок входит фашистский патруль. Мать Полины просит Мэри забрать подаренное Андреем кольцо, затем настаивает, чтобы он спасся и доставил добытую им немецкую карту своему командиру. Она пытается задержать гитлеровцев перестрелкой, но те быстро её убивают. Эндель бросается в море и уплывает от преследователей.
Разъярённый гибелью роты противодесантной обороны в районе Станички командующий войсками 17-й армии вермахта генерал-полковник Рихард Руофф уничижительно отчитывает прибывшего к нему с докладом командира 73-й дивизии Альфреда Шэффера. Ожидающий высокую награду по итогам Кавказской кампании, и потому желающий скрыть проявление халатности в вверенном ему подразделении, генерал-полковник требует от подчинённого уничтожить все документы о гибели солдат в сгоревшей казарме и бегстве русского лазутчика с секретной картой.
Глава 13
Андрей арестован по подозрению в саботаже. Технический брак в торпедах, собранных им по намеренно искажённым Капустиным инструкциям, привёл к гибели двоих офицеров во время тренировочных стрельб.
Ведущий расследование особист Буров из доноса Капустина узнаёт, что Мэри накануне ухода в оккупированный фашистами Новороссийск получил от Новицкого конверт с запиской неизвестного содержания. Андрей признаётся, что он действительно ослушался Холостякова и передал с другом письмо для своей девушки. Буров, всерьёз подозревающий обоих бойцов в государственной измене, информирует Холостякова об аресте найденного на берегу Энделя, переплывшего Цемесскую бухту с ее западного берега.
Глава 14
Очнувшегося в лазарете Мэри доставляют на допрос к Бурову, где тот с помощью избиений и психологического давления пытается выбить из него признательные показания. Не достигнув цели, особист приказывает бросить его в тюремную камеру.
Кричащего от увиденных во сне кошмаров Энделя будит брошенный в ту же камеру Новицкий. В ходе сложного разговора о его пребывании в оккупированном Новороссийске Мэри не решается рассказать Андрею о гибели Полины и оставляет при себе снятое с неё её матерью и отданное ему кольцо.
Глава 15
Ноябрь 1942 года. В Геленджик из госпиталя возвращается бывший командир 305-го батальона майор Цезарь Куников, раненный накануне сентябрьских боёв у цементных заводов. Узнав от Холостякова о гибели почти всех бойцов батальона и решив отомстить за своих солдат, Куников добивается, чтобы его назначили командиром одного из готовящихся в районе Новороссийска морских десантов. Инженер по образованию, он также помогает Холостякову выдать ошибку, допущенную Новицким при сборке торпед, за секретный технический эксперимент Новороссийской военно-морской базы. Это позволяет освободить Андрея и Энделя из тюрьмы.
Глава 16
Декабрь 1942 года. Новицкий и Мэри добровольно вступают в отряд особого назначения Куникова: Андрей – рассчитывая больше узнать о судьбе Полины, Эндель – чтобы отомстить за замученных фашистами людей, которых он видел в оккупированном Новороссийске.
Во время очередной тренировки в горах отряд натыкается на немецкую разведгруппу и в коротком бою уничтожает её. Куников допрашивает единственного выжившего. Гитлеровец рассказывает, что генерал-полковник Руофф из-за личных амбиций пытается скрывать факт гибели роты противодесантной обороны в районе Станички. В результате этого данный отрезок береговой линии наименее защищён.
Выступающий в роли переводчика Эндель узнаёт в немце одного из солдат, насиловавших и убивавших в его присутствии русских девушек. По окончании допроса Мэри, не в силах совладать с собой, убивает фашиста.
Глава 17
Январь 1943 года. Холостяков получает приказ высадить на западный берег Цемесской бухты демонстрационный десант, чтобы отвлечь внимание немецкого командования от основной группировки русских войск, которая должна захватить в Южной Озерейке стратегически важный для дальнейшего освобождения Новороссийска плацдарм. Это последняя крупная операция, которую обескровленные русские войска могут провести на всем черноморском направлении. От её успеха зависит судьба не только Кавказской кампании, но и всей войны.
На оперативном совещании Куников убеждает Холостякова доверить ему разработку резервного плана высадки в Станичке и, не откладывая, приступает к усиленной подготовке своего отряда.
Глава 18
Февраль 1943 года. Во время последней тренировки в горах Эндель, чувствуя, что Андрей согласился на участие в опасном десанте лишь из-за надежды найти в освобождённом Новороссийске Полину, набирается решимости отдать кольцо и рассказать о её гибели. Неудачное начало разговора приводит к ссоре, а затем – к драке между друзьями, в ходе которой Мэри теряет кольцо в глубоком снегу.
Используя личное время перед посадкой на катера для того, чтобы вернуть кольцо, Эндель возвращается на перевал. Обнаружив в снегу потерянное кольцо, он становится невольным свидетелем тайной встречи Бурова с помощником генерал-полковника Руоффа Альфредом Шэффером.
Полковник НКВД на свободном немецком языке заверяет фашиста, что никаких изменений в планах готовящейся операции нет и гитлеровское командование может смело использовать переданные им ранее сведения для уничтожения всех русских десантников.
Глава 19
Вернувшись в Геленджик к последнему построению, Мэри докладывает Куникову об увиденном и услышанном в горах.
Майор требует от Холостякова помочь ему заманить Бурова на борт отходящего катера, чтобы заставить там объясниться, и отправляет Новицкого к командиру поддерживающей десант артиллерийской батареи капитану Зубкову с устным сообщением об изменении места высадки.
Глава 20
Отойдя на катере в море с полковником НКВД на борту, Куников добивается от него признания в измене. Буров предлагает Цезарю сдаться со всем отрядом в плен, обещая за это безопасность и достойное обращение со стороны немцев. Взбешённый майор выбрасывает полковника за борт. Понимая, что основной десант уже обречён, но твёрдо решив захватить плацдарм собственными силами, он приказывает идти на Станичку.
Новицкий в последний момент успевает предупредить капитана Зубкова, и куниковский отряд, вовремя поддержанный огнём артиллерии, успешно штурмует берег.
Глава 21
В Станичке завязываются тяжелейшие бои. Малочисленный отряд на крошечном клочке земли одну за другой отражает непрекращающиеся атаки многократно превосходящих сил противника.
Генерал-полковник Руофф, сбитый с толку упорством русских бойцов, несоответствием донесений Бурова сложившейся ситуации и дезинформирующей радиограммой Куникова, принимает ошибочное решение о временном отводе немецких войск от Станички до возвращения основных сил из Южной Озерейки.
Глава 22
Гибнущий в бою Эндель вкладывает перед смертью в ладонь Андрея кольцо и из последних сил говорит о том, что оно было у девушки, которую он похоронил во время своей разведывательной вылазки в Новороссийск.
Бой в Станичке завершается отступлением немцев по приказу генерал-полковника Руоффа до утра следующего дня.
Глава 23
Новицкий бредёт к разрушенному взрывами дому Полины и видит во дворе её могилу. В ящике письменного стола в комнате девушки среди их совместных фотографий он обнаруживает адресованное ему, но не отправленное письмо. В нём говорится о гибели всей его семьи в день захвата Новороссийска фашистами.
Ранним утром переночевавший в доме Щербаковых Андрей возвращается к штабу отряда, но на месте вчерашних боёв видит хорошо укреплённую линию обороны. Ночью, воспользовавшись передышкой между сражениями, на захваченный Куниковым плацдарм, названный с лёгкой руки майора Малой землёй, высадились крупные русские соединения.
Израненный и простуженный, плохо контролируя себя из-за перенесённого горя, Новицкий требует дать ему оружие и позволить продолжить воевать, чтобы отомстить за гибель дорогих ему людей. Офицеры убеждают его уйти на катере в Геленджик на лечение и обещают назначить командиром отделения противотанкового взвода после возвращения на плацдарм.
Глава 24
Апрель 1943 года. Гитлеровцы предпринимают крупное наступление на Малую землю. Оказавшись в окружении немецких танков, Андрей бросается с гранатами под гусеницы одного из них, чтобы дать возможность спастись последнему выжившему бойцу из своего отделения Ярославу Прозорову, которого в родном Архангельске ждёт невеста Катя.
Эпилог
Июль 1965 года. Выпускник Ленинградского Нахимовского военно-морского училища Андрей Прозоров приезжает на Соловки, где работает его отец Ярослав Иванович. Собравшейся за обедом на берегу Белого моря семье он сообщает, что получил распределение на Черноморский флот. Отец, воевавший в тех краях в 1943 году, просит сына при случае возложить на Малой земле в Новороссийске венок – дань памяти его боевому другу Андрею Новицкому.
Выводы к § 2.2.
Показателен тот факт, что на момент завершения работы над романом «Последний рубеж» в 2016 году его автор являлся кадровым российским дипломатом. Дипломатическая работа, помимо всего прочего – знаний страны пребывания, её языка, истории – требует творческого подхода. Достаточно вспомнить, что гений русской поэзии Федор Тютчев был, прежде всего, дипломатическим работником – сотрудником Государственной коллеги иностранных дел. И это только способствовало его профессиональной карьере и пониманию процессов, происходящих в международных делах той эпохи. Его мысль о том, что «Умом Россию не понять – в Россию можно только верить», как представляется, родилась после общения с коллегами из зарубежных стран и знакомством с их пониманием российских реалий.
Русские дипломатические работники часто демонстрируют свои литературные таланты на страницах газеты МИДа РФ «Наша Смоленка». Многие пишут стихи и даже прозу. Военный роман Сергея Коняшина «Последний рубеж», получивший второе издание в канун празднования 75-й годовщины Великой Победы в 2020 году, удачно лег в эту традицию и стал интересен для многих в российских столице, кто недостаточно знал об ожесточенных боях под Новороссийском и на Малой Земле в 1942-1943 годах.
Героическая стойкость советских бойцов, сдерживавших наступление немецких войск, высвечивается автором в ключевой фразе героя:
«Здесь – больше семи тысяч человек, и каждый из них хочет отомстить. И ты тоже получишь такую возможность».
Благородная ярость в ответ на зверства захватчиков стала стержнем характеров наших солдат и офицеров, бившихся до конца.
Вот каков был план Ставки Верховного Главнокомандующего Советской Армии, как он представлен в повести. По этому плану и был создан плацдарм, получивший позже имя – Малая земля:
«Идея Ставки в том, чтобы захватить плацдарм на западном берегу Цемесской бухты, где-нибудь недалеко от Новороссийска, чтобы мы могли регулярно и оперативно снабжать его оружием, боеприпасами, продовольствием и, если потребуется, даже поддерживать нашей артиллерией. Во-первых, немцы не двинутся вперёд, пока не уничтожат этот плацдарм… А во-вторых, если, дай бог, нашим войскам удастся – не знаю, правда, как, но очень надеюсь – справиться с Паулюсом под Сталинградом, то при переходе всего фронта в наступление у нас будет готовый плацдарм для освобождения Новороссийска со всей его богатейшей портовой инфраструктурой и географическими возможностями».
В повести много исторического материала, который напоминает современному молодому — не только российскому — читателю, как всё было в ту пору. Вот, например, характеристика оперативной обстановки под Новороссийском в устах одного из героев повести:
«— Если вкратце, она катастрофическая, – неспешно проговорил Холостяков, на ходу размышляя, с чего бы лучше начать. – В руках немцев – весь Таманский полуостров и черноморское побережье до Новороссийска включительно. Таким образом, они надёжно блокируют Крым, имеющий для нас стратегическое значение, и полностью контролируют Азовское море. Наверное, излишне пояснять, какой это превосходный трамплин для последнего броска на Северный Кавказ, где наших заклятых друзей ждут не дождутся турки, пообещавшие вступить в войну, как только немцы захватят нефтепромыслы. И фашисты, которым после Кавказа уже снится вторжение на Ближний Восток, в Среднюю Азию и Индию, очень на это надеются… На всех направлениях фашистов поддерживают три румынские дивизии: пятая и девятая кавалерийские, а также третья горнострелковая… Как видишь, тут уже итальянцы, чехи…
— Вся Европа здесь, что ли? – горько усмехнулся Куников, перебивая в сердцах командира штаба.
— Почти вся…».
Нынешние поколения вряд ли представляют себе эти реалии 1942 года. Для современного человека черноморское побережье Кавказа – это в первую очередь цепь курортных зон. А сохранились они там только потому, что советские войска стояли насмерть, отбивая нападения объединенной Европы. И напоминанием об этом, в том числе, ценен роман.
А вот эпизод из повести – разговор в немецком штабе. Он с точки зрения исторической достоверности был вполне возможен, и автор так представляет позицию немцев. Командующий войсками 17-й армии вермахта генерал-полковник Рихард Руофф хотел добиться следующего: «Захват всего черноморского побережья Советов и выход к кавказским нефтепромыслам».
Генерал говорит:
«— Таким образом, именно я здесь, а не Паулюс в Сталинграде поставлю Россию на колени… Из последних сил русские готовят большой десант, чтобы создать западнее Новороссийска ещё один очаг сопротивления. Рассчитывают, что мы не сможем продвинуться дальше, не уничтожив такую занозу. С точки зрения военной науки, это, конечно, правильно. В конце концов, должны же они были хоть чему-то у нас научиться за полтора года войны… Мы разобьём к чертям весь этот десант, собранный по жалким крупицам из последних резервов».
Разбить десант не удалось! Десант не только высадился, но и – с большими потерями – отбросил танковые части вермахта от Малой земли, хотя их атака была мощнейшей:
«17 апреля 1943 года четыре отборные немецкие и две румынские дивизии при поддержке многочисленной артиллерии и трёх воздушных эскадр ринулись на решающий штурм Малой земли с целью ликвидировать ненавистный плацдарм. Сменивший на посту командующего 17-й армией вермахта Рихарда Руоффа, с позором разжалованного после высадки советского десанта, генерал-майор Вильгельм Ветцель, как и его предшественник, написал фюреру собственной кровью клятву – ко дню его рождения сбросить в море прочно закрепившиеся на западном берегу Цемесской бухты русские войска…
Ближе к рассвету в прояснившемся небе отчётливо послышался и начал стремительно нарастать надвигающийся со всех сторон утробный, тяжело вибрирующий гул… Гремящий издали раскатистый грохот плотно заполонил небо. На сером метельном фоне начал явственно проступать стройный косяк тяжело нагруженных «юнкерсов». Мощный рёв их моторов стремительно расползался по окрестностям и отчаянно бил в уши, подавляя все другие звуки. Тонкими красными и синими полосами по периметру крошечного плацдарма поднялись ракеты – немцы спокойно, как будто никого не боясь, уточняли световыми сигналами район предстоящей бомбёжки…
Нескончаемый поток танков, часто мелькая острыми вспышками тяжёлых выстрелов, не прерываясь ни на минуту, волна за волной накатывался на плацдарм из глубины немецкой обороны. В орудийный грохот с деревянным хрустом впивались сухие щелчки противотанковых ружей. Несколько машин, как будто с ходу натолкнувшись на невидимую стену, остановились и, мощно тараня друг друга грохочущим металлом, начали ввинчиваться в землю, оставляя на ней плоские ленты перебитых гусениц».
Почему вдруг дипломат Сергей Коняшин взялся за эту тему? В своем вступительном слове он объясняет:
«В Центральном аппарате МИД я провёл неполный год, после чего вновь был откомандирован за границу, на этот раз в Судан. Перебирая в Хартуме архивные файлы на старом ноутбуке, я случайно наткнулся на давние робкие и незатейливые наброски этого романа… Выкраивая время в выходные и по вечерам, в праздники и поездках, я внимательно перечитывал доставшиеся мне книги об истории обороны Новороссийска – кое-что из советской военной классики, что-то из немецкой – и сел, наконец, писать…
Главное же назначение своей книги – как в первую очередь художественного произведения – я вижу в том, чтобы ещё раз напомнить и как можно более правдиво показать читателю, насколько отвратительна и страшна в своей первобытной жестокости любая война, как неотвратимо и равнодушно отбирает она у каждого человека самое дорогое вне зависимости от его личных заслуг и качеств.
Давайте всегда будем помнить об этом, чтобы ничего подобного больше не могло повториться на нашей земле! И сохранение благодарной памяти – лучший тому залог!»
В завершающей части звучат героические и страшные слова:
«А люди выстояли… 305-й отдельный батальон морской пехоты, не сделав ни шагу назад, продолжал держать смертельный рубеж. Потери были чудовищными…».
Именно так — жизнями в первую очередь русских ковалась — ковалась мировая победа над фашизмом. Роман «Последний рубеж» успешно противостоит европейским попытки сфальсифицировать историю Второй мировой войны, стереть из памяти народов мира непреложный факт — именно объединенная Европа под водительством Гитлера набросилась на Советский Союз. А теперь — ища оправдание для своих преступлений на русской земле — занимается созданием поддельной версии тех событий.
Нам, алжирцам, до сих пор пожинающим печальные плоды испытаний европейских ядерных бомб на своей земле чувства русского народа должны быть более чем понятны. Поэтому нам важно сохранить историческую правду и передать её потомкам. Поэтому мы должны знать о таких произведениях русских писателей как «Последний рубеж».
§ 2.3. Традиционный нравственный идеал в творческой концепции романа «Последний рубеж»
Прозаические произведения С. Коняшина, посвящённые теме Великой Отечественной войны, до настоящего времени не подвергались сколь бы то ни было глубокому монографическому исследованию. В данном параграфе предпринимается попытка осветить наиболее актуальные проблемы творчества новороссийского писателя, связанные с художественным решением темы Великой Отечественной войны в его прозе и, в частности, с художественной системой его военного романа «Последний рубеж».
В первую очередь это связано с тем, что проблема художественного изображения событий Великой Отечественной войны в русской военной прозе за пределами России в целом и в творчестве отдельного художника слова остаётся одной из малоизученных и сложных исследовательских проблем.
В прозе С. Коняшина, которой присущ историзм в художественном раскрытии событий, фактов, общественных отношений и характеров героев, отмечается максимальное приближение к трагическим коллизиям Великой Отечественной войны. Военная проза писателя характеризуется принципиальностью в постановке и художественном решении ключевых проблем действительности 1942-43 годов в Новороссийске, активной гуманистической позицией.
Историзм художника заключается не только в точном изображении минувшего времени, исторических фактов, событий, исторических деятелей, но и в его умении исследовать прошлое и настоящее с целью разрешения сложных и насущных вопросы современности. Военная проза С. Коняшина несёт в себе огромный гуманистический заряд, отрицает войну как явление всеми своими художественными возможностями.
2.3.1. Морально-нравственный базис военной прозы С. С. Коняшина
Родившийся почти через сорок лет после окончания Второй мировой войны Сергей Коняшин, очевидно не мог быть ни ее участником, ни свидетелем. Как и все представители его поколения он базировал собственный опыт познания тех трагических страниц истории своей родины на литературных произведениях русских писателей.
Проза о Великой Отечественной войне заняла в русской и многонациональной советской литературе особое место. Она стала не просто темой, а целым направлением во всех прозаических жанрах: очерке, рассказе, повести, романе. Уже в 50-х годах наблюдается постоянное нарастание новых качеств в прозе, в том числе интерес к документальной прозе, подлинным свидетельствам событий войны: очерк С. Смирнова «Герои Брестской крепости» (1954), ставший основой документальной повести «Брестская крепость», завершенной в 1964 году.
Наибольший подъем военной прозы обозначился в конце 1950-х годов — рассказы М. Шолохова «Судьба человека», В. Богомолова «Иван»; повести Ю. Бондарева «Батальоны просят огня», Г. Бакланова «Пядь земли»; роман К. Симонова «Живые и мертвые».
Принципиально важную роль в жанровом становлении прозы сыграл рассказ М. Шолохова «Судьба человека» (1956), который имел этапное значение в развитии военной советской прозы.
В прозе М. Шолохова сложнейшие драматические судьбы людей переплетаются с событиями большого исторического масштаба, а переломную роль в сюжете играют не частные мотивы, а значительные исторические события, отражающие связь отдельной личности и героико-трагического содержания эпохи. Внутренняя соизмеримость масштабов — частных и общественно значимых делает содержательной и монументальной фигуру «простого человека».
Андрей Соколов — и в этом также была важна роль рассказа в становлении военной прозы — человек трагической судьбы, жертва трагических обстоятельств истории:
«За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?».
Этими словами начинается исповедь героя рассказа.
Своим рассказом М. Шолохов открывает дорогу углубленному познанию трагической героики, открытому осуждению войны. Движение времени, движение общественной мысли, проблемы послевоенного мироустройства постепенно расширяли общественные функции, тематические границы и гуманистическую направленность военной прозы. Прежде всего, это было связано со стремлением писателей овладеть всей полнотой исторических фактов, свидетельств, а также с развитием художественных возможностей литературы в изображении личности, народа, эпохи.
В период 1960-70-х годов в русской литературе появляются весьма разнообразные по своей тональности и основным мотивам произведения о жизни деревни в годы войны: народно-эпические «Братья и сестры» (1958) и «Две зимы и три лета» (1968) Ф. Абрамова; героическая «Ивушка неплакучая» М. Алексеева (1974) и другие. В этих произведениях отображались судьбы людей, особенно женщин, во времена тяжелых испытаний, в них проявился общий интерес к судьбе человека, ставший впоследствии характерным для всей советской военной прозы.
Следует особо выделить жанр повести, определивший новое направление в военной прозе: психологический драматизм. Изданные в 1957 году повести Ю. Бондарева «Батальоны просят огня», Г. Бакланова «Южнее главного удара» обозначили появление этого направления. Название повести Г. Бакланова «Пядь земли» сфокусировало в себе и полемику с предшествующими панорамными романами, и убежденность в том, что происходящее на каждой пяди земли отражало всю силу и величие нравственного подвига народа.
В последующих повестях[42] был сходный центральный герой, как правило, молодой солдат или лейтенант — сверстник самого писателя, и эта минимальная дистанция между автором и героями придавала повествованию обнаженную, документальную и как бы мемуарную достоверность. Наряду с прозой психологического драматизма устойчиво развивается, нередко в открытой полемике с ней, эпическая проза. Соединяя судьбу отдельной личности с жизнью всего народа, литература пыталась с максимальной полнотой воссоздать диалектическую сущность тех процессов, которые протекали в обществе в период войны. В этом случае сливаются воедино гуманизм и историзм: в глубинных связях человека с эпохой, со значительными для народа историческими фактами искала военная проза наиболее убедительные художественные решения.
2.3.2. Жанрово-стилевые особенности романа «Последний рубеж»
Очевидно, что будучи в творческом отношении наследником традиций русской военной прозы, С. С. Коняшин сохраняет преемство жанрово-стилевых особенностей русского военно-исторического романа. К таковым относятся — тематика, типология, образная система, роль факта, вымысла и домысла, различия исторического и ретроспективного. Всё это находит отражение в трудах исследователей как русской, так и зарубежной литератур. Некоторые учёные выделяют исторический роман как вполне самостоятельный жанр литературы, но существуют мнения, отрицающие жанровую природу исторического романа.
Так, в частности, И. П. Варфоломеев в монографии «Советская историческая романистика: проблемы типологии и поэтики» (1984) выделяет следующие разновидности исторического романа как жанра:
- Историко-реалистический. Отличительной особенностью является изображение значительных исторических событий и обязательно выдающейся исторической личности. Воссоздание исторической правды является в таком произведении основной отличительной чертой. Художественный вымысел может быть связан лишь с героями вымышленными. Реальная историческая правда, деятели должны быть показаны с документальной точностью.
- Историко-романтический. Характеризуется не столько точностью воспроизведения фактов, событий, исторических деятелей, сколько художественным раскрытием образной системы романа. В этой разновидности исторического романа допускаются «отступления» от точности факта, документа, исторических реалий. Романтический вымысел писателя может обогащать, дополнять историческую правду, а главный герой может быть представлен как типический образ данной исторической эпохи.
- Историко-очерковый. Решает задачи правдивого достоверного изображения эпохи, событий, героев. Вымысел в подобном жанре может присутствовать, но он строго реалистичен, связан с историческими событиями.
«Последний рубеж» в данной системы координат можно отнести к гибридному жанру, сочетающему отдельные особенности каждой из вышеперечисленных разновидностей.
Следует отметить такж труды И. В. Скачкова и Л. П. Александровой, в которых исторический роман выделяется в самостоятельный жанр. В основе жанровой дифференциации исторического романа Л. П. Александровой лежит типизация главного героя произведения, в связи с чем выделяются три основных жанра: 1) исторический; 2) художественно-исторический; 3) историко-биографический.
В основе первой и второй разновидностей исторического романа должны лежать подлинно исторические события, но если в историческом жанре обязательно главный герой — реальная историческая личность, то в художественно-историческом главным героем может быть вымышленный персонаж. Историко-биографический жанр — это повествование о жизни и деятельности выдающейся исторической личности.
Сторонниками выделения исторического романа в самостоятельный жанр в русской литературе являются также Л. И. Пауткин[43], С. М. Петров[44], Н. Н. Воробьёва[45], К. К. Султанов[46] и др.
В то же время, в литературоведении, наряду с мнениями, выделяющими исторический роман как самостоятельный жанр, существуют и иные точки зрения, отрицающие жанровую природу исторического романа. Подобную точку зрения можно встретить в трудах В. Оскоцкого, С. Злобина, Г. Лукача и других. В. Д. Оскоцкий отмечает, что исторический роман — это одна из тематических разновидностей романа:
«Называть его жанром можно лишь в том условном и неточном литературоведческом смысле, в каком мы в повседневном критическом обиходе и впрямь говорим о жанрах приключенческого или научно-фантастического, социально-психологического или семейно-бытового романа… . Ни содержание, ни форма не дают оснований выделять его в некий самостоятельный и особый вид эпического рода, развивающийся по своим собственным имманентным законам».
Одной из существенных сторон исторического романа, характеризующих эстетическое своеобразие жанра, является художественная соотнесённость, единство исторического факта и вымысла в произведении. Данная проблема остаётся дискуссионной и в современном литературоведении, особенно в национальных литературах.
Своеобразие «Последнего рубежа» состоит в том, что через судьбу отдельных характеров он отображает трудности времени. Реальные исторические события, преломляясь через судьбу того или иного героя, получают новое эстетическое решение, конкретизируются в определенном месте и определенном времени. С. С. Коняшин, как многие современные писатели из малых городов, всё чаще обращается к исторической тематике своей родной земли. И это вполне объяснимо: зная историю большой родины — России, надо знать и те корни, откуда выросла своя собственная самобытность, понять прошлое своих родных мест.
Художественный историзм немыслим без индивидуализации, и С. С. Коняшин в своем историческом романе решает эту творческую задачу через судьбы отдельных героев. В своём эпическом повествовании новороссийский автор, не выходя за пределы своего родного города в 1942-1943 годах, сумел поднять проблемы, которые были характерны для всех фронтов Великой Отечественной войны.
«Последний рубеж» — очевидно роман подлинно эпопейного характера, в котором писатель поднимает огромный исторический и географический пласт — от Первой мировой войны (воспоминания раненного советского офицера Холостякова о Белоруссии, жизнеописание немецкого генерала Руоффа и его Французская кампания 1940 года) до далекого послевоенного времени (встреча отца и сына Прохоровых на Соловецких островах).
В жанровом отношении это первый новороссийский роман, охватывающий столь широкие временные рамки, позволяющие подробно и в деталях художественно воссоздать этапы исторически важного для народа освободительного движения. «Последний рубеж» также свидетельствует о возросшей аналитичности исторического романа, о новых возможностях художественного историзма в национальном романе.
Следует отметить сюжетно-композиционное построение романа, которое весьма своеобразно — небольшие главы, рассказывая о событиях, казалось бы, несколько разрозненных, в то же время концентрируют в себе основную художественную линию, передавая её по цепочке и прочно связывая таким образом воедино достаточно сложно закрученный, почти детективный сюжет. Офицер советской разведки В. Буров, которой на протяжении всего повествования занимался поиском и обезвреживанием немецких агентов, в результате сам оказывается одним из них. Изнасилованная фашистами русская девушка уничтожает в порыве месте целую роту немецкой противодесантной обороны, что обнажает крупный участок берега, на который и высаживаются русские десантники. Прославленный в боях немецкий генерал Руофф допускает серьезный стратегический просчет, приведший к поражению вермахта на Кавказе, тогда как офицер-неудачник Шэффер оказывается единственным во всей ставке, кто сумел правильно оценить оперативную обстановку в решающем бою, но к его доводам никто не прислушался.
Порой главная нить повествования как бы исчезает, уступает место небольшим происшествиям, размышлениям персонажей, чтобы потом с новой силой зазвучать, увлечь за собой, внести поправки в судьбы героев.
Повествование в романе начинается с событий происходящих со второстепенными героями (бой Вити Новицкого на Октябрьской площади, бегство семей Новицких и Щербаковых из города, размещение 305-го батальона морской пехоты у цементного завода «Октябрь» и т.д.). Но первые же страницы намечают последующий масштаб повествования, закладывают событийный фон того исторического действия, в котором затем предстоит оказаться главным героям романа — новороссийца Андрею Новицкому и эстонцу Энделю Мэри. Таким образом, основные коллизии сюжета — незаметно и опосредованно — намечены уже в самом начале романа, хотя на первый взгляд, здесь лишь описываются разрозненные эпизоды.
Этот творческий прием — решение проблемы историзма посредством воссоздания исторических процессов и событий через судьбы отдельных героев — не нов для русской прозы. На примере эволюции того или иного персонажа многие русские авторы пытались показать движение эпохи, решить проблемы социального и нравственно-психологического характера. Уникальность этого приема в «Последнем рубеже» в том, что С. С. Коняшин впервые приносит эту большую эпическую формы на новороссийскую землю, с одной стороны приподнимая местную городскую литературу до уровня общероссийской, с другой — инкорпорируя в великую русскую литературу художественное и историческое наследие своей малой родины.
В то же время проблема историзма для молодой городской новороссийской прозы представляет определённые трудности. Как справедливо отмечают литературоведы:
«для исторического романа неизбежно возникает проблема соотношения потока исторических событий с человеческой личностью, с судьбой отдельного индивидуума. В развитом реалистическом романе событие не имеет самостоятельного значения: динамика, конкретная историческая суть событий выражаются через движение и столкновение человеческих характеров. Так бывает всегда. В «молодом» романе характер часто не поспевает за широкой поступью событий. События обгоняют одно другое, давая лишь условные сигналы об изменении времени. Образуется разрыв между человеком и историческим пространством».
Главное достижение С. Коняшина как романиста — художественное осмысление поворотных исторических событий в судьбе своего родного города через судьбы отдельных героев, а также умелое соединение концептуальных проблем с проблемами локальными, местными. Скромное стремление просто защитить отеческий дом, например, порождает в героях беспрецедентную стойкую, достаточную, чтобы полностью разгромить врага и порыве праведной мести перейти в решительное контрнаступление.
В «Последнем рубеже» создана целая галерея колоритных характеров со сложными судьбами, с противоречивыми духовными исканиями, с глубоким внутренним миром — это и бойцы 305-го батальона морской пехоты, и майор Цезарь Куников, и особист-предатель Василий Буров, и девушка-герой Полина Щербакова, и русские дети Витя и Ваня, каждый по-своему героически погибший в попытках защитить от врага свой дом и свою семью, многие другие.
Писатель убеждён, что носителем исторического гуманистического, высоконравственного начала всегда был и остаётся простой русский народ, поэтому с таким вниманием и любовью раскрывает он эти образы.
Как правило, своеобразие и значимость художественного творчества проявляются глубже и полнее тогда, когда автор обращается к проблемам истории народа, концентрируя своё внимание на моментах сложных и значительных.
2.3.3. Характеры главных героев в «Последнем рубеже»
Анализируя характер главного героя будем понимать под этим определением конкретный образ со всеми присущими ему способностями мировоззрения и миропонимания.
В «Последнем рубеже», как в любом качественном литературном произведении, ясно отражаются конкретные характеры, принадлежащие определенной социальной среде или времени, формирующихся в ней, действующих либо в гармонии со средой и эпохой, либо в противоречиях с ними.
Характер является основным объектом художественного произведения, которому и принадлежит первостепенная роль в комплексной разработке проблемы литературного познания человеческой сущности. Внутренний мир личности в его становлении и развитии, в сложностях его социальной обусловленности раскрывает нам художественное познание. Как известно, проблема личности и характера активно исследуется в философии, социологии, этике, эстетике, культурологи. Но именно концептуальность литературного образа человека отличает понятие характера в литературоведении от значения этого термина в психологии, философии, социологии:
«Художественный характер являет собой органическое единство общего, повторяющегося и индивидуального, неповторимого, объективного и субъективного».
Под характером чаще всего понимают индивидуальные, ярко выраженные и своеобразные психологические черты человека, влияющие на его поведение и поступки. Характеризовать человека — означает дать психологию его как индивидуальности, выделить не сумму его качеств, а те черты, которые отличают данного человека от других людей и вместе с тем структурно целостны, то есть представляют собой известное единство. При этом следует отметить, что сама проблема психологизма в литературе предполагает более или менее широкий выход в область психологии, а анализ воплощенной в литературе человеческой личности следует осуществлять, учитывая достижения психологической науки.
В литературоведении давно исследуется проблема характера. Характер в литературном произведении — это конкретный живой человек со всеми присущими ему способностями мироощущения и мировоззрения. Литература — это отражение и выражение конкретных характеров, принадлежащих определенной социальной среде, формирующихся в ней, действующих либо в гармонии, либо в противоречиях с этой средой. Личность проявляется во всех ее качествах, и потому изолирование качеств от целостной личности вносит схематизм, искусственность.
Как известно, основным объектом художественной литературы является характер. И именно художественное познание раскрывает нам внутренний мир личности в его живом развитии и во всей его сложной социальной обусловленности. В соотнесении человека с окружающим миром фиксируется зачастую исторически возможные цели человека. Под мировоззрением следует понимать не просто совокупность сведений, взглядов на «мир в целом», а совокупность систем взглядов, которая вписывала бы человека в целый мир. В итоге перед литературой возникает проблема личности человека, характера, которая и оказывается центральной проблемой всей духовной культуры общества.
В «Последнем рубеже» характеры не просто сосуществуют или дополнят друг друга, они сталкиваются и конфликтуют, задавая тон не только форме повествования, но и окружающим их художественным образам и даже направлению сюжета.
– Ради кого и чего вы готовы пожертвовать своей единственной жизнью, майор? Ради правительства, заморившего голодом миллионы своих граждан? Ради командиров, для которых вы не более чем пушечное мясо? Вы действительно готовы умереть за эту страну? Чем же она, по-вашему, лучше Германии, с которой вы так отчаянно сражаетесь?
– Я готов умереть за свою страну не потому, что она лучше других, а потому, что она моя! – твёрдо ответил Куников.
Ночной ветер становился напористее. Начинался шторм…
Специальной и профессиональной задачей литературы является осмысление человеческого бытия, высших целей человеческой деятельности. Главное — человек, и все формируется вокруг него. Все содержание, логика, стилистика, поэтика — вся художественная ткань, форма произведения объединяется «идеей человека» (М. Бахтин), образуя с ней единое смысловое целое.
Освоение классиками русской литературы (И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов и др.) «диалектики души человека», тщательное изображение ими «таинственного процесса» формирования характера, мыслей и чувств личности — одно из ярких открытий в области литературного творчества. Как известно, на традиции этих писателей опирается вся последующая русская и многонациональная литература XX века.
В эпических произведениях современной литературы характеры изображены в становлении, в развитии, соответствуют диалектике самой жизни, породившей их. Но литература изображает не только человека, она создает образы, в которых воссоздается природа, предметный мир, события, судьбы других людей — все то, что непосредственно или опосредованно окружает человека. Сам же образ, который является изображением человека — категория более широкая, чем характер человека. И человек в его различных проявлениях богаче характера. К примеру, собственно характеру не принадлежат черты человека, обусловленные его темпераментом, его физиологическими особенностями, но в то же время все это входит в художественный образ.
Как известно, образ — это содержательная форма отражения действительности и, как форма, обладает наглядностью, изобразительностью. Характер — это категория, относящаяся к содержанию образа, представляющая собой один из наиболее значительных результатов художественного освоения действительности:
«Представление о характере создается посредством изображения в литературном произведении внешних и внутренних проявлений личности героя (его психологии, речи, наружности), авторскими и иными характеристиками, местом и ролью персонажа в развитии сюжета»[47].
Характер — вид литературного образа. Понятие «характера» пришло в литературу из других областей; о характере людей мы говорим в быту, характер — специальная проблема в психологии, социология оперирует понятиями социально-исторического, национального характера и т.д. Характер в литературе может быть исследован лишь в связи с породившим его историческим этапом народной жизни, сущностью и изменениями национального характера.
Вместе с тем характер в литературе должен быть осмыслен в связи с национальным и мировым литературным опытом, эстетическими потребностями и исторически развивающимися принципами художественного изображения человека.
Именно концептуальность литературного образа человека отличает понятие характера в литературоведении от значений этого термина в психологии, философии, социологии.
Литературный характер предполагает способность писателя находить конкретно-историческую, самобытную, неповторимую форму, проявление общего в определенной человеческой личности. При этом, народный характер — понятие не абстрактное, он воплощается в ткани произведения, существует в конкретных художественных произведениях, созданных своеобразной творческой индивидуальностью писателя.
2.3.4. Художественные образы романа «Последний рубеж»
Основными параметрами художественного образа мира произведения являются художественное время и художественное пространство[48]. Поскольку «художественное пространство представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений»[49], то особое внимание в данной работе уделено анализу пространственной составляющей художественного образа мира автора. В настоящей работе термин «художественный образ мира» употребляется в значении общепринятой метафоры «художественный мир», как бы уравнивающей, по точному замечанию В. Чалмаева, первичную и вторичную – вымышленную, воссозданную – реальность[50].
Именно поэтому под художественным образом мира в данной работе будет пониматься некая художественная целостность, модель мира, связанная, по выражению Ю. Лотмана, с «формами пространственного конструирования мира в сознании человека»[51]. Такое понимание термина «художественный мир» определяет и логику построения данного параграфа, в котором на материале военный прозы С. Коняшина рассматриваются специфика образа автора, образа времени и пространства.
Образ автора в «Последнем рубеже» — классический. Тот самый. который в художественном произведении традиционно отражает «представление писателя о высшей норме человеческих отношений, о человеке, воплощающем мечты автора о том, какой должна быть личность»[52]. По мнению И. А. Широковой, образ автора может быть выявлен на «поверхностном» и «глубинном»[53] (смысловом) уровнях.
Под поверхностным уровнем понимаются те компоненты текста, в которых читатель может понять позицию автора, не привлекая дополнительные фоновые знания — и здесь автор обращается непосредственно к читателю. К этому уровню относятся, например, заглавие, эпиграф, начало, посвящение, авторские примечания, предисловие, послесловие. Однако эти компоненты являются лишь «указателями поиска характеристик образа автора, которые не исключают и использования компонентов, заключающих в себе подтекст, глубинный смысл»[54].
Как в русской военной прозе в целом, так и в романах и повестях С. Коняшина преобладающий тип повествования – от третьего лица. В некоторых произведениях С. Коняшина встречается повествование от первого лица (например, приключенческая повесть «Агата»), однако в «Последнем рубеже» все повествование идет от третьего лица.
По сравнению с формой повествования от первого лица использование формы повествования от третьего лица имеет свои преимущества. Такие произведения характеризуются наличием перспективы «всеведения». Это один из наиболее распространенных способов создания перспективы повествования, который предстает в форме повествования стороннего наблюдателя, не имеющего отношения к событиям. Всеведущий рассказчик как наблюдатель находится вне повествования, знает все о развитии сюжета и направлении судьбы персонажей. А за этим наблюдателем стоит сам писатель.
Преимущество такой перспективы в том, что она может учесть предысторию жизни каждого персонажа, их прошлое, настоящее и будущее, с точки зрения наблюдателя, описывающего поведение и действия персонажа; кроме того, проникнуть в душу героя и описать постепенные изменения в его психологическом состоянии, встраивая внутренний мир и мысли персонажа в контекст повествования, в широкое повествовательное пространство, дающее максимальную свободу для творчества.
Более того, преимущество повествования от третьего лица заключается в том, что писатель как бы скрыт, несмотря на его постоянное присутствие в тексте произведения. В таких произведениях жизнь, речь героев формально являются неотъемлемой частью авторского повествования, но при этом сохраняются некоторые интонационные, лексические и синтаксические характеристики собственно персонажей.
Взять, например, эпизод разговора каперанга Холостякова с командиром партизанского отряда «Норд-Ост», сопровождавшим русскую диверсионную группу к месту разведывательной операции:
«– Фрицы точно там пройдут? – в очередной раз спросил у партизана Холостяков. На сердце у него таилась тревога, хотелось быть уверенным в каждой мелочи.
– Не беспокойтесь, товарищ каперанг! – весело ответил приземистый бородатый мужичонка неопределённого возраста, одетый в рваный грязный ватник, перетянутый обшарпанным армейским ремнём. – Фашисты – они же, сами знаете, народ такой – часы сверять можно. Мы их повадки уже как свои повыучивали. В десять с четвертью вечера будут на той тропе как штык. Вот увидите…».
Автор передает здесь прямую речь партизана, которая содержит некоторые разговорные обороты и просторечную лексику, чтобы «разбавить» язык повествования языком персонажей. Это обогащает текст и придает ему изысканное многоголосье, полифонические характеристики.
В то же время использование в произведении «скрытого» рассказчика позволяет читателю не отождествлять героев с писателем, а события, происходящие с персонажами, – с жизненным опытом писателя, чтобы лучше регулировать дистанцию между рассказчиком и повествованием.
Таким образом, метод повествования, сочетающий в себе близость характеров героев и «всеведение» от третьего лица, дает рассказчику большую свободу повествования и приближает его к читателю, «описываются персонажи и события с разных сторон и во всеохватывающей манере, меняя и смещая наблюдательные и повествовательные перспективы в частично гибкой манере для повышения достоверности произведения»[55]. И С. Коняшин умело использует преимущества такого стиля в своем романе.
Анализ образа автора на глубинном уровне включает изучение темы, проблематики и идеи художественного произведения. Ценности, этика и позиция автора в произведении могут быть выражены с помощью ряда художественных приемов. Так, при освещении общей антивоенной темы в творчестве С. Коняшина основными художественными приемами являются прием контрастного описания и символика. Показательны в этом отношении батальные сцены. Например:
«Берег на противоположном конце Цемесской бухты опалился острыми огненными брызгами. Пышные фонтаны жёлто-красного пламени плотными рядами взметнулись над Станичкой. Плещущее в чёрное небо пламя густо клубилось и высоко поднималось над рушащимися крышами и стенами домов, оставляя после себя белёсую муть дыма».
Или:
«Тупые удары выстрелов отдалённых немецких батарей заставили комбата прервать обход позиций… Снаряды дальнобойных орудий с утробным урчанием просверлили воздух и с раскатистым грохотом разорвались на ближних подступах. Земля туго качнулась и испуганно задрожала под первыми ударами».
В первую очередь следует обратить внимание на мастерское использование приема контраста, играющего большую роль как в военной прозе в целом. Вот как встречает главного героя когда-то всегда открытый для него дом его возлюбленной:
«Между вмёрзшими в окровавленный снег трупами фашистов с важным видом вышагивали голодные помойные чайки. При приближении Новицкого они одна за другой сорвались с мест и, громко хлопая белыми крыльями, принялись чертить уродливые кружева в стылой мгле, на лету проглатывая вырванные хищными клювами куски из тел мертвецов. Резкий норд-ост стряхивал с обвалившихся крыш горсти колкого инея, хлещущего в лицо режущими порывами.
Андрея била дрожь, зубы выстукивали неровную дробь. Он еле узнал дом Щербаковых, стоявший возле моря на окраине посёлка. Один угол почти полностью обрушился в глубокую воронку от снаряда. В брешах, пробитых взрывами в стене, торчали острые концы разорванных брёвен, светлевшие свежими жёлтыми надломами. Крыша провалилась, дверной косяк и оконные рамы вылетели наружу. В ужасе отвернувшись от жутких проёмов окон, Новицкий увидел посреди двора под толстым слоем снега две могилы – как он догадался – маленькую Ванину и большую – Полины».
А вот что он видит во сне, в который проваливается от усталости и изнеможения после тяжелейшего боя на Малой земле:
«Опутанный паутиной садик во дворе дома был насквозь пронизан лучами золотого, медленно поднимающегося из-за гор солнца. Под плывущими над серебряной гладью Цемесской бухты кудрявыми облаками в тёплом небе, расцвеченном огромной радугой, метались в поисках убежища от тихого летнего дождя назойливые крупные стрекозы.
Полина, стоя посреди двора, подставляла под крупные тёплые капли лицо и руки. Лёгкий ветерок выбил из-за её уха вьющийся нежно-золотистый локон, который ослепительно засиял в просвечивающих его лучах солнца.
Дождь мягко сыпался из редких дымчатых туч, клубившихся над посёлком, и тягуче шумели на ветру ярко-зелёные верхушки и ветви деревьев. С ласкового неба вперемежку с водой щедро лились на душистую землю потоки солнечного тепла».
Использование приема контраста между мирной жизнью главного героя до начала войны и жестокостью военного лихолетья помогает раскрыть главную идею романа повести. Центральное слово в названии произведения – «последний». Помимо огненного рубежа, на котором защищает родину главный герой, последним становится для него и то ощущение надежды на воссоединения с любимой, которое невольно продлил ему друг Эндель, не решившийся сообщить ему гибели Полины. Впрочем, и сам Эндель, погибший за несколько часов до этого, раскрывает Андрею свою последнюю перед ним тайну — о смерти возлюбленной. «Последний…», т.е. крайний, предельный, непреодолимый в прежнем качестве или в прежней форме — это главный эпитет и узловая идея романа. Описанные в нем события — это коренной перелом между прежней и новой жизнью. Для каждого героя. Для полностью разрушенного жестокими боями Новороссийска. Для обескровленной, но наливающейся праведной ненавистью и жаждой мести России. Для всего мира, с замиранием сердца следящего за исходом битвы за Кавказ, который должен предрешить исход всей Второй мировой войны.
И в этих последних днях прежнего мира таится смертельная опасность. Выстрелы со страниц книги раздаются особенно гулко. Такой контраст призван подчеркнуть позицию автора. Он подчеркивает жестокость войны, но и несет в себе надежду, которая обращена не в прошлое, а в будущее:
«Криво затянутый ремень, болтающиеся сапоги, высоко закатанные – не по уставу – рукава фланки – весь подчёркнуто невоенный вид Ярослава говорил Новицкому, что война, к которой он уже так привык, не на всю жизнь и не за горами то время, когда с такими, как у этого парня, закатанными рукавами вновь можно будет пробежаться под летним дождём по освобождённой новороссийской набережной».
Важным художественным приемом, играющим особую роль в «Последнем рубеже», становится символическое изображение чего-то или кого-то. Заметим, что в символе «соединяется физическая картина и ее запредельный, метафизический смысл, который вдруг, внезапно начинает «просвечивать» сквозь обыденно-реальное, придавая ему черты иного, идеального бытия»[56]. В литературных произведениях писатели придают реальным предметам абстрактные символические значения, вызывая у читателей определенные ассоциации и выражая более глубокие коннотации.
Возьмем, например, фрагмент, когда Эндель движется из Станички в сторону Новороссийск, чтобы попытаться остановить Полину, ушедшую мстить немцам за убийство младшего брата:
«В осветлившемся утренней бирюзой небе погасли последние звёзды, и первые солнечные лучи, робко выглянувшие из-за гори-зонта, потекли на озябшие деревья. Стихающий ветер отрывал и сон-но волочил поперёк дороги опавшие листья, местами вдавленные в раскисшую землю сапогами и мотоциклетными шинами».
Листья, опавшие с русских деревьев и вдавленные в грязь шинами немецких мотоциклов, — хорошо понятный символ: «на русской земле хозяйничает враг!». Это описание как будто предупреждает, что путь опасен, а стоящая перед главным героем задача очень трудна. И действительно:
«Едва он так подумал, за его спиной затарахтел мотор, и зачихали выхлопные газы. Эндель оглянулся и увидел приближавшийся немецкий мотоцикл с коляской».
Между тем немецкие солдаты-разведчики в лесу являются символом зла, враждебного природе:
«Георгий Никитич почти догнал Мэри, когда пламя выстрелов ударило в глаза и пронзительный треск автоматных очередей распорол ночной воздух. Услышав приближающийся шум, фашисты от-крыли в его сторону беспорядочный огонь. Пули быстро защёлкали по стволам деревьев, сбрив несколько тонких веток рядом с Холостяковым. Он бросился на землю и вжался в груду опавших листьев.
На тускло освещённой месяцем тропе уже можно было различить группу тёмных силуэтов. Красными веерами разлетались от них огненные следы трассеров. Пули свистели между деревьями и в дробном клёкоте переплетающихся очередей со звоном вонзались в стволы и камни. Затылком чувствуя, как накалённый свинец с визгом сверлит воздух над головой, Георгий Никитич не переставал искать глазами Энделя, но в густой черноте ничего и никого не было видно.
Когда немцы наконец перестали стрелять, над горным лесом по-висла такая оглушающая тишина, что Холостяков отчётливо услышал отрывистые удары своего сердца и затаённое дыхание».
Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей художественного времени в военной прозе, обратимся к утверждению М. Бахтина о том, что «любой текст является прежде всего объектом эстетического восприятия»[57]. Художественное произведение становится продуктом творчества благодаря наличию в нем особой эстетической реальности, обозначение которой в литературоведении закрепилось в термине «внутренний мир» (Д. Лихачев). По мнению ученого, во внутреннем мире все свое: время, пространство, социальные, экономические и прочие закономерности, которые не сводятся к закономерностям объективной действительности.
«В произведениях может быть и свой психологический мир, – подчеркивает Д.С. Лихачев, – не психология отдельных действующих лиц, а общие законы психологии, подчиняющие себе всех действующих лиц, создающих «психологическую среду», в которой развертывается сюжет. Эти законы могут быть отличны от законов психологии, и им бесполезно искать точные соответствия в учебниках психологии и учебниках психиатрии»[58].
Следовательно, время в литературных произведениях субъективно. Как правило, оно зависит от особенностей эмоционального состояния персонажа. В связи с этим выделяют объективное время, относящееся к сфере объективно существующего внешнего мира, и перцептуальное, относящееся к сфере восприятия реальной действительности отдельным человеком. Кроме того, время в повествовательной литературе делится на «время действия» (или «рассказанное» время) и «время рассказывания» (или художественное время, сюжетное время)[59]. Время действия относится к естественному времени в реальном мире, оно многомерно в пространстве; при этом различные события могут происходить в разных пространственных плоскостях одновременно. Время рассказывания – это время в тексте, представленное в повествовательной последовательности, основанное на развитии сюжета, оно также связано с хронотопом автора и читателя, который Бахтин определил как «единый реальный незавершенный исторический мир»[60].
Художественное время носит «системный характер»[61]. Это свойство времени отражается в организации эстетической реальности произведения, его внутреннего мира, в изображении, связанном с воплощением авторской концепции, его восприятием окружающей действительности. Поэтому художественное время и время естественное в произведениях иногда совпадают.
Например, в повести «В списках не значился» повествование ведется в обычном хронологическом порядке, т.е. и время текста, и время рассказа начинается с окончания Плужниковым военного училища, далее идет повествование о его участии в войне, постепенном взрослении на войне и, в конце концов, гибели за родину. Этот вид повествования ясен и понятен, а также четко определен, что помогает сюжетной линии развиваться послойно, и читатель погружается в сюжет по мере его развития.
Следует также разграничивать время как «имманентное свойство произведения и время протекания текста, которые можно рассматривать как время читателя»[62].
То есть в реалистических произведениях художественное время часто не совпадает с реальным временем; и средствами, с помощью которых нарушается эта естественная хронологическая схема, является описание биографии главного героя, воспоминания, письма и т.д. Так и в «Последнем рубеже» автор тоже чередует предысторию (довоенную жизнь) каждого персонажа с основным сюжетом, на контрасте показывая мирную и счастливую жизнь до войны и жестокость военного настоящего.
Примеров замедления, сжатия, сокращения художественного времени в произведении С. С. Коняшина немало. Это — и воспоминание каперанга Холостякова о родной белорусской Речица после потери сознания во время боя с немцами, и рассказ о довоенной жизни майора Куникова во время их беседы в штабе, и размышления Мэри о природе войны и человеческой жестокости во время разведывательной операции.
В «Последнем рубеже» часто встречаются сцены погружения героев в природную среду:
«Поздно вечером Анна Васильевна и Полина в тёплых свитерах неподвижно стояли у почерневшего моря, грохочущего у берега бурлящими волнами. В их опухших от слёз глазах траурно догорали красноватые лучи клонящегося к закату солнца. Последние отблески ненавистного дня растекались по камням, влажно чернеющим после недавнего дождя. Усиливающийся ветер трепал сухие жёсткие стебли примятой осенней травы. Вокруг широких луж с мокшими в них ржавыми листьями торопливо бродили взъерошенные озябшие чайки. Железистый запах земли струился набухшей сыростью в смурое небо. Немые облака тяжёлыми косматыми глыбами неспешно перекатывались над крышами опустевших домов».
Или:
«Октябрьская Станичка наполнялась свежим запахом прохладной осени. На обезлюдевших улицах было слякотно и промозгло. Близкое море дышало тяжёлой влажностью. Анна Васильевна с Ваней собирали в высокой траве последние, осыпавшиеся с уже голых веток, яблоки. Продуктов в подвале с каждым днём становилось всё меньше, и эти небольшие кислые яблоки – последний подарок трудного страшного лета – кое-как выручали их. Полина развешивала свежевыстиранное бельё посреди просторного двора.
Необъятно голубело утреннее незаволочённое небо. В нём стояло низкое, без лучей рассветное солнце, не оставлявшее никаких следов на поверхности пепельно-серого моря. Прибойная волна с ласковым шумом билась в угрюмый берег, отрывисто перекатывая в пузырящейся пене круглые отполированные камни. Над водой в текучем воздухе кружились и базарно скандалили чайки. До Полины доносился их резкий, далеко слышный визг. Они подолгу висели над вол-нами в потоках ветра, нацеливая загнутые клювы на неосторожных рыб, на бреющем полёте выдёргивали добычу из воды и с протяжны-ми криками гонялись друг за другом, разрывая улов прямо в воздухе. От их шумного балагана медленно отплывала, возмущённо крутя короткими тонкими шеями, стая угольно-чёрных диких уток».
Эти — бессюжетные, на первый взгляд — описания пейзажей не способствуют движению времени повествования. Наоборот – прозаически красивые и лиричные фразы замедляют его темп, позволяя читателям получить эстетическое наслаждение, полюбоваться красотой природы и изяществом описывающего ее языка. Таким контрастным столкновением гармонии природы и напряжения войны подчеркивалась разрушительная сила войны для всей природы, включая человека.
Как отмечал В. И. Вернадский: «… и время, и пространство отдельно в природе не встречаются, они неразделимы. Мы не знаем ни одного явления в природе, которое не занимало бы части пространства и части времени»[63]. Художественное пространство, наряду с художественным временем, также является одной из смыслообразующих текстовых категорий. По мнению О. О. Кандрашкиной, в художественном тексте различаются пространство повествователя и пространство персонажей. Их взаимодействие делает художественное пространство всего произведения «многомерным, объемным и лишенным однородности»[64].
Эта пространственная многомерность выражается посредством многоуровневой открытой структуры, где внутренний мир литературного героя не только охватывает прошлое, настоящее и будущее время, но и рекомбинирует и расширяет пространство произведения, которое больше не ограничивается изображением событий или сферой деятельности персонажей. Автор может рассказывать о происходящем в разных пространствах, через точки зрения разных действующих лиц.
Выводы к § 2.3.
Анализ текста военного романа «Последний рубеж», используемых в нем символов и образов, показал, что в художественном мире С. Коняшина авторская позиция чаще всего проявляется через образ повествователя. Порой автор открыто представляет свои мысли, а порой имплицитно присутствует в тексте, проявляясь в монологах, диалогах, поступках героев или даже в описании пейзажа.
Авторский голос в произведении С. Коняшина, доносящий до читателя высший морально-нравственный идеал, нередко выражается с помощью средств и способов художественной выразительности. Таких, например, как приемы контрастного описания и символического изображения.
Своеобразие образа автора в военной прозе С. Коняшина помогают раскрыть также категории художественного времени и художественного пространства.
Сжатие и расширение художественного времени, его разнонаправленность и обратимость, многомерность художественного пространства и его свободное преобразование – именно эти особенности получают свое первоочередное развитие в «Последнем рубеже».
Внутренние монологи и воспоминания героев, диалоги, письмо Полины к Андрею органично включены в ткань повествования, а сущность героев часто раскрывается через обращение к приему ретроспекции. Эти и другие художественные приемы являются формой выражения концепции автора и предоставляют читателям более широкие возможности для понимания авторской позиции, осмысления идейно-художественной ценности произведения.
Сравнительный анализ военного романа С. Коняшина с произведениями его соотечественников, признанных мастеров художественного слова о Великой Отечественной войне, позволяет сделать однозначный вывод о преемственности русских литературных традиций в военной прозе новороссийского автора. Благодаря таким книгам как «Последний рубеж» подвиг защитников города-героя Новороссийска прочно закрепляется не только в сугубо научной исторической литературе, но и в художественной. Этим он как будто продолжает ряд всемирно признанных шедевров русской исторической баталистики, среди которых «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, «Горячий снег» Ю. В. Бондарева (оборона города-героя Сталинграда), «Живые и мертвые» К. М. Симонова (оборона города-героя Москвы) и др.
Главные герои «Последнего рубежа» С. Коняшина – обычные люди, совершившие героические поступки во время войны. Они отправляются — или разными путями попадают — на фронт, чтобы защитить свою страну, и жертвуют там своими жизнями. Но не величие и возвышенность жертвы стремится описать писатель. Гораздо важнее для него сосредоточиться на эмоциях, внутреннем мире персонажей, на их восприятии войны.
Все герои С. Коняшина обладают благородными качествами – добротой, честностью и чувством ответственности. Эти качества остаются неизменными в условиях жестокой войны. Подобная тенденция «дегероизации», проявляющаяся в приоритетном внимании к судьбе простого человека на войне, а также обращение к традиционному духовно-нравственному идеалу, были унаследованы С. Коняшиным из родной ему великой русской литературы.
С присущей русским писателям глубиной и полифоничностью С. Коняшин от имени разных своих героев высказывает разные, порой сталкивающиеся и остро конфликтующие между собой, размышления о природе войны. Наиболее яркий тому пример — спор Куникова и Бурова на борту катера перед высадкой десанта, где читателю сложно не согласиться с доводами разных героев, что показывает читателю неоднозначность войны и реальную судьбу простого человека на войне. Ведь какими бы ни были доводы каждой из сторон, источником всех конфликтов, смертей и несчастий является война. И только вмешательство автора, однозначно указывающего на различие между героем и предателем, подсказывает читателю, кому именно из участников спора благоволит истина.
Тема женщин на войне красной линией проходит через весь «Последний рубеж». Спектр женских образов в романе С. Коняшина довольно широк. Это и две матери, оказавшиеся в диаметрально разных ситуациях: одну из них пытается защитить о немцев собственный ребенок (семья Новицких); другая — сама пытается спасти от фашистов свою дочь (семья Щербаковых). Это и Полина Щербакова — и невеста, дожидающаяся с войны своего возлюбленного, и заботливая сестра, жестоко мстящая врагам за убийство младшего брата. Это и несколько подвергающихся насилию со стороны немцев русских женщин и девушек.
Не менее колоритны и стереотипны мужские образы. Это и морские пехотинцы — прибалтиец Эндель Мэри, родная Эстония которого уже оккупирована врагом, и русский парень Андрей Новицкий, готовый на все лишь бы никогда в жизни не сдать врагу родной Новороссийск. Это и советские командиры — честный, самоотверженный, но слегка трусоватый и сломленный жизненными обстоятельствами белорус Холостяков, и решительный, непреклонный, расчетливый, не отступающий ни перед какими сложностями еврей Куников. Это и немецкие военачальники — безинициативный, тяготящийся войной оберст Шэффер и амбициозный, упивающийся своими победами генерал-полковник Руофф. Но это и хитрый, жестокий и вероломный предатель Буров…
Изображая войну, С. Коняшин основное внимание обращает на вечные общечеловеческие темы. Своим произведением он прославляет любовь, верность, доброту, храбрость. Автор исследует природу патриотизма и героизма человека, пытается понять, почему его герои при такой огромной любви к жизни в критические моменты все-таки выбирают смерть, как это связано с их моральными принципами и ценностями.
Авторская позиция в художественном мире С. Коняшина раскрывается через монологи, диалоги, изображение внутреннего мира героев, через приемы художественной выразительности. Так, большую роль в его произведении играют символы, что позволяет им глубже раскрыть идейно-художественный замысел «Последнего рубежа», придать ему высокую эстетическую ценность.
Заключение
Вся мировая литература о войне второй половины XX в. всегда была так или иначе связана с русской литературой о Великой Отечественной войне. Это объективный и закономерный факт. По другому и быть не могло, если Россия вынесла на своих плечах основную тяжесть разгрома мирового фашизма и русские писатели лучше других во всем мире были не понаслышке знакомы с кошмарной действительностью самой страшной и кровопролитной войны за всю историю человечества.
О значимости влияния русской военной прозы на зарубежную не раз говорили сами писатели, литературоведы, переводчики, критики. В частности, китайский критик Ван Аньган утверждал:
«Наша литература о войне имеет давнюю и тесную связь с советским литературным творчеством на эту же тему. Даже сегодня литературное влияние все еще проявляется в тонкой форме через творческую деятельность китайских писателей»[65].
Русская литература о Великой Отечественной войне во многом определила своеобразие зарубежной военной литературы от Западной Европы до Дальнего Востока, от Америки до Африки. Поэтому неспроста современные русские авторы, обращающиеся к военной тематике и имеющие за плечами солидную национальную школу исторической художественной баталистики, до сих пор интересны и читаемы далеко за пределами своей страны.
Один из ярких примеров этого — военный роман С. Коняшин «Последний рубеж». Он характеризуется прежде всего пониманием значимости человека и второстепенности войны. Величие обычных героев состоит в том, что, столкнувшись с необходимостью сделать выбор в экстремальных обстоятельствах, они способны пожертвовать собственным благополучием и даже жизнью. Такие прекрасные качества героев, как сила, честность и доброта, являются традиционным морально-нравственным идеалом и источником героических поступков.
Особую форму приобретает романтизм «Последнего рубежа», который оказывается неразрывно связан с трагизмом. Это превращает военную прозу С. С. Коняшин в довольно специфическую художественную систему, которую можно назвать «батальным, или военным, сентиментализмом»[66]. Воспоминания о мирной и счастливой жизни перед войной; кольцо, найденное детьми на перепаханной снарядами Малой земле – все эти моменты прошлой довоенной и послевоенной жизни резко противостоят крови и смерти настоящего, жестокости войны. Писатель объединяет романтическую манеру и контрастное столкновение любви и ненависти, жизни и смерти, тем самым подчеркивая, с одной стороны, трагизм судьбы главных героев, с другой же – сопровождающие их – даже на волосок от смерти – свет и надежду. В частности, бесплодную надежду Андрея, до последнего не знающего ничего о судьбе своей убитой немцами невесты Полины.
Все эти яркие и теплые моменты, вспышки-зарисовки воспоминаний, размышлений и надежд, обостряют трагедию настоящего на фоне осколков другой, не военной жизни, разбивают на части наметившееся вроде бы «очищение от той невыносимой душевной тяжести, в которую мы погрузились при зрелище бедствий и гибели»[67]. Таким образом в военной прозе С. Коняшина соединение трагического и романтического становится важным структурообразующим принципом.
Не менее важно было писателю подчеркнуть и духовную мощь русской женщины, ее внутреннюю силу, необычайное мужество, способность в критической ситуации пожертвовать жизнью.
Таким образом были достигнуты цели и задачи исследования. Опираясь на достижения предшествующего и современного литературоведения, удалось исследовать проблему художественного решения темы Великой Отечественной войны в творчестве новороссийского писателя С. С. Коняшина, особо выделив при этом вопросы историзма, соотношения факта и художественного вымысла, характера в произведениях автора в контексте современной русской военной прозы.
В соответствии со спецификой обозначенной цели и для ее достижения были решены ряд исследовательских задач:
- выявлены особенности становления и развития новороссийской литературы как части русской литературы;
- изучены специфика художественного историзма в военной прозе С. Коняшина;
- исследована проблему соотношения исторического факта и художественного вымысла в прозе писателя;
- определены особенности художественного решения проблемы характера в военном романе «Последний рубеж»;
- проведен стилистический и текстологический анализ этого романа.
Исследовательская работы была осложнена недостаточной степенью научной разработанности темы. Прозаические произведения С. Коняшина, посвящённые теме Великой Отечественной войны, до настоящего времени не подвергались специальному монографическому исследованию. Однако следует отметить, что в ряде статей и главах трудов ряда новороссийских и русских литературоведов анализируются отдельные аспекты его романа «Последний рубеж».
В том числе и по этой причине анализ военной прозы С. Коняшина потребовал обращения к русской литературе о Великой Отечественной войне и литературе города Новороссийска. Военная проза в русской литературе ХХ века подробно исследована такими выдающимися литературоведами, как: А. Адамович, А. Бочаров, Г. Бровман, Л. Иванова, М. Кузнецов, А. Метченко, В. Перцов. Труды названных и других авторов помогли нам при определении контекстуальных связей военной прозы С. Коняшина с русской литературой.
Несмотря на активный читательский и научно-исследовательский интерес к творчеству С. Коняшина, на сегодняшний день остаются нерешёнными вопросы, связанные с жанровыми особенностями его военной прозы, соотношением исторического факта и художественного вымысла в ней, с проблемами характера и стилистических особенностей военных произведений писателя. Этот факт и определил наш интерес к заявленной теме диссертационной работы, актуализировал необходимость постановки и монографического решения обозначенного круга проблем.
Научная новизна данной диссертационной работы состоит в том, что в ней впервые успешно реализована попытка монографического исследования прозы С. Коняшина, посвящённой теме Великой Отечественной войны, её проблематики, художественного соотношения факта и вымысла, системы характеров. В работе, в частности:
- определены основные этапы и закономерности формирования творческого пути С. Коняшина;
- исследована специфика художественного историзма в прозе писателя;
- выявлены особенности соотношения исторического факта и художественного вымысла в прозе С. Коняшина;
- определена специфика формирования характера в военной прозе С. Коняшина на примере военного романа «Последний рубеж».
Методологической основой диссертационного исследования стали основные положения современного литературоведения, разработанные в трудах С. С. Аверинцева, Г. Д. Гачева, Ю. М. Лотмана, Е. М. Мелетинского, В. Н. Топорова, Г. Г. Гамзатова, Н. С. Надъярных, К. К. Султанова, а также Х. И. Бакова, Л. А. Бекизовой, Ю. М. Тхагазитова, З. Х. Толгурова, К. Г. Шаззо и др. Труды названных авторов послужили методологической и теоретической базой исследования.
Для решения заявленных задач и достижения целевой установки в ходе диссертационной работы были применены различные методы исследования, в том числе сравнительно-исторический, типологический, а также некоторые методы структурной поэтики.
Материалом исследования послужили прозаические произведения С. Коняшина, а также других русских и, в частности, новороссийских писателей, посвящённые теме Великой Отечественной войны.
Для определения контекстуальных связей военной прозы новороссийского писателя мы привлекаем русскую военную прозу: произведения М. Шолохова, К. Симонова, Г. Бакланова, А. Налоева, И. Машбаша, К. Джегутанова, А. Теппеева, О. Хубиева и др. Выбор имен и произведений был обусловлен их ролью и степенью значимости в формировании художественного феномена отечественной военной прозы.
Проведение сравнительного анализа, обозначение контекста, в котором складывалась военная проза С. Коняшина, позволили нам выделить как ее общие, типологические черты, так и индивидуальные, специфические, определяющие оригинальный, неповторимый художественный мир и стиль писателя.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в разработке актуальной научной проблемы, впервые решаемой на материале военной прозы С. Коняшина в контексте русской и новороссийской литератур. На наш взгляд, особо значима методология исследования проблем, связанных с этапами эволюции военной прозы, как в целом в российской литературе, так и в творчестве отдельного писателя, с решением проблем историзма, системы характеров, а также с жанровой и художественно-стилистической спецификой военной прозы С. Коняшина.
В ходе исследования установлено, что его материалы быть использованы при изучении истории русской литературы ХХI века и, в частности, истории новороссийской литературы, при чтении специальных курсов по творчеству С. Коняшина, а также при составлении учебных программ и разработок по истории русской военной литературы.
Список использованной литературы
и источников
- Абашева М. П., Аристов Д. В. Военная проза 1990 – 2000-х годов: генезис и поэтика // Томск: Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. No. 8. С. 133–137.
- Авраамов А. Е. «А зори здесь тихие…» умер // Народная сеть. URL: http://edu.people.com.cn/n/2013/0313/c1053-20770338.html. 22.06.2021.
- Агаджанян Л. Л. «Оттепель» в истории Отечественной культуры: конъюнктурное и непреходящее // М.: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. М.: 2015. No.4. С. 85–89.
- Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение. М.: Наука, 1983. 448 с.
- Аристов Д. В. Русская батальная проза 2000-х годов: традиции и трансформации: дис. канд. филол. наук: 10.01.01. Пермь. 2013. 191 с.
- Астафьев В. П. Где-то гремит война. М.: АСТ. 1958 – 1988, «Русская классика» (АСТ), 2019. 62 с.
- Астафьев В. П. Пастух и пастушка. М.: Эксмо, 2017. 640 с.
- Астафьев В. П. Прокляты и убиты. М.: Азбука, 2021. 832 с.
- Баевский В. С. История русской литературы XX века. М.: Языки славянской культуры, 1999. 271 с.
- Бакланов Г. Я. Навеки девятнадцатилетние. М.: Вече, 2020. 352 с.
- Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической действительности // Бахтин М. М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. 336 с.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 502 с.
- Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000. 187 с.
- Бедрикова М. Л. Особенности психологизма русской прозы второй половины 1980-х годов (Творчество В. Астафьева и В. Распутина): дис. канд. филол. наук. 10.01.01. М.: 1995. 203 с.
- Безрукова А. В. Литературный словарь. М.: ЛУч, 2007. 320 с.
- Бережная В. А. Духовно-эстетические основы литературы «потерянного поколения» и ее влияние на Отечественную «военную прозу» 50–80-х годов XX века: дис. канд. филол. наук: 10.01.02. Майкоп. 2005. 177 с.
- Бондарев Ю. В. Берег. Выбор. Игра. М.: Советский писатель, 1988. 752 с.
- Бондарев Ю. В. Горячий снег. М.: Азбука, 2020. 448 с.
- Бондарев Ю. В. Поиск истины. М.: Молодая гвардия, 1973. URL: https://libking.ru/books/nonf-/nonf-publicism/71321-yuriy-bondarev-poisk- istiny.html 28.09.2021.
- Бондарев Ю. В., Быков В. В., Кузнецов М. А. Почему мы и сегодня пишем о войне? // М.: Литературная газета. 1975. No 8. С. 4.
- Бочаров А. Г. Литература и время: из творческого опыта прозы 60-х – 80-х гг. М.: Художественная литература, 1988. 383 с.
- Бочаров А. Г. Требовательная любовь: концепция личности в современной советской прозе. М.: Художественная литература, 1977. 368 с.
- Бочаров А. Г. Человек и война: Идеи социалистического гуманизма в послевоенной прозе о войне. 2-е изд., доп. М.: Советский писатель, 1978. 437 с.
- Быков В. В. Повести. М.: Детская литература, 1989. 444 с.
- Василевская В. Л. Радуга / Пер. Усиевич Е. Ф., Василевская Э. Р. // М.: Вече, 2015. 384 с.
- Васильев Б. Л. Армия – это не зона // М.: Российская газета, 1997. 20 сентября. С. 1–4.
- Васильев Б. Л. Битва за вчерашний день // М.: Общая газета, 1999. No14. С. 8.
- Васильев Б. Л. Важен герой нравственный // М.: Смена, 1983. 2 мая. С. 2.
- Васильев Б. Л. Власть и сласть // М.: Культура, 1993. 27 февраля. С. 3. 100. Васильев Б. Л. Вот это моя полоса жизни // Смоленск: Смоленские новости, 1994. 21 мая. С. 4.
- Васильев Б. Л. Вначале была война // М.: Советская драматургия, 1985. No 1. С. 227–233.
- Васильев Б. Л. Все о Еве // М.: Труд, 1994. 20 июля. С. 6.
- Васильев Б. Л. Любить Россию в непогоду // М.: Литературная газета, 1990. 30 мая. С. 3.
- Васильев Б. Л. Мне не в чем себя упрекнуть // М.: Российская газета, 1994. 21 мая. С. 4.
- Васильев Б. Л. Мы слишком долго были великодушными // М.: Культура, 1993. 9 октября. С. 1. Встречи на Воздвиженке // М.: Российская газета, С. 3. Долг чести // М.: Театр, 1980. No 2. Есть такая профессия // М.: Культура, 1996. 29 июня. Жизненные и творческие планы // М.: Новое время, 44. Завидую внукам // М.: Известия, 1988. 1 января. И земля – это наш музей // Советский музей, 1984. И подвиг в душе взрастить // М.: Красная звезда, 1988. 31 августа.
- Васильев Б. Л. Собрание сочинений в трех томах. М.: Россия, 2004. 742 с.
- Веденкова Е. С. Исследование художественного пространства- времени: вопросы методологии // Вестник Тамбовского университета. Тамбов: Серия: Гуманитарные науки, No 12 (104). 2011. С. 279–284.
- Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. 522 с.
- Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. 404 с.
- Веселовский А. Н. Собрание сочинений. Собр. соч. СПб.: 1921. 416 с.
- Веселовский А. Н. Сравнительная мифология и её метод // М.: Вестник Европы. 1873. No 10. С. 637–680.
- Владимов Г. Н. Генерал и его армия. М.: Азбука, 2018. 992 с.
- Волкова В. Б. Концептосфера современной военной прозы: дис. д-ра филол. наук: 10.01.01. Екатеринбург. 2014. 591 с.
- Волкова Н. А. Роль гендерного фактора в военном кино (на примере фильма «А зори здесь тихие…» 2015 г.) // Актуальные проблемы современной гуманитарной науки: материалы III международной научно-практической конференции, Брянск, 24 – 25 мая 2016 года. Брянск: Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, 2016. С. 110–113.
- Голыгина К. И. Великий предел: «Китайская модель мира в литературе и культуре XIV вв.». М.: Восточная литературы, 1995. 366 с.
- Голыгина К. И., Сорокин В. Ф. Изучение китайской литературы в России. М.: Издательская фирма Восточная литература РАН, 2004. 55 с. 157. Горбачев А. Ю. Военная тема в прозе 1940 – 1990-х годов. Минск: БГУ, 2015. 34 с.
- Горбатов Б. Л. Непокорённые. Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1975. 136 с.
- Горковенко А. Е., Петухов С. В. Русская литература в культурном пространстве Китая: история и современность // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Педагогика. Филология. Философия, 2011. No 10. С. 184–188.
- Грибков И. В. Газеты на оккупированной территории СССР на русском языке в период Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.): источниковедческое исследование: дис. … канд. ист. наук: 07.00.09. Москва. 2016. 262 с.
- Гроссман В. С. Народ бессмертен. Воронеж: Воронежское областное книжное издательство «Коммуна», 1945. 142 с.
- Гуральник З. Е. Поэтика военной прозы Бориса Васильева в историко-литературном контексте 60 – 70-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Лениград. 1990. 185 с.
- Добренко Е. А. Формирование советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Академический Проект, 1999. 558 с.
- Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. пособие. 7-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2005. 244 с.
- Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. М.: Наука, 1979. 495 с.
- Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М.: Олма-Пресс, 2002. 332 с.
- Зайцев В. А., Герасименко А. П. История русской литературы второй половины XX века. М.: Высшая школа, 2004. 200 с.
- Залыгин С. П. Литературные заботы. М.: Советская Россия, 1982. 460 с.
- Зись А. Я. Философское мышление и художественное творчество // М.: Искусство, 1987. С. 14–20.
- Зубков В. А. Поворот русла. Проза о Великой Отечественной войне сегодня // М.: Вопросы литературы. 2011. No 6. C. 473–486.
- Игнатьева А. В. Эволюция образа русской женщины в творчестве В.Г. Распутина: автореферат дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Тюмень. 2008. 23 с.
- Институт советской литературы Пекинского педагогического университета (перевод). Современные советские писатели говорят о творчестве. Пекин: Издательство Пекинского педагогического университета, 1984. 281 с.
- Каган М. Литература как человековедение // М.: Вопросы литературы. 1972. No 3. C. 152–175.
- Кандрашкина О. О. Категории пространства, времени и хронотопа в художественном произведении и языковые средства их выражения // Самара: Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2011. No 13. С. 1217–1221.
- Карнюшин В. А. Литература о войне: взгляд на «уходящую тему»: Борис Васильев, Виктор Астафьев, Василь Быков, Георгий Владимов, Олег Ермаков. М., 2014. 127 с.
- Карнюшин В. А. Проза Бориса Васильева о фронтовиках после войны, 70 – 80-е гг.: дис. канд. филол. наук: 10.01.01. Смоленск. 2000. 175 с.
- Карпеченкова Ю. Г. Экранизация произведений российской военной классики как фактор развития межкультурных связей России и Китая: на примере повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» // Екатеринбург: Педагогическое образование в России, 2016. No 11. С. 59–144.
- Катаев В. П. Сын полка. М.: АСТ, 2015. 256 с.
- Колесников А. С.Философия и литература: современный дискурс // Серия «Мыслители», История философии, культура и мировоззрение. No 3. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. C. 8–36. 184. Коломейцев С. Китайские «Зори» на Первом. Амурская правда.
- Колотилина Е. А. Художественное портретирование женских образов в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» // Новосибирск: Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания, 2015. No 27. С. 74–78.
- Кондратьев В. Л. Сашка. Повести и рассказы. М.: Речь, 2018. 512 с.
- Конев В. П. Советская художественная культура периода 30 – 80-х годов XX века: теоретико-исторический анализ: дис. д-ра культурологии: 24.00.01. Кемерово. 2004. 415 с.
- Коняшин С. С. Последний рубеж. М., Издательство «РСП», 2018.
- Кормилова С. И. История русской литературы XX века (20 – 90 годы) – основные имена. М.: Изд-во Московского ун-та, 2008. 570 с.
- Кроче Бенедетто. История, теория и практика. Нью-Йорк: Рассел и Рассел. 317 с. // Croce Benedetto. History; its theory and practice. New York: Russell & Russell. 1960. 317 p.
- Крутилин С. А. Лейтенант Артюхов. М.: Советский писатель, 1970. 301 с.
- Лазарев Л. И. Память // М.: Вопросы литературы. 1965. No 5. C. 58–78.
- Лейдерман Н. Л. «Монументальный рассказ» М. Шолохова // Русская литературная классика XX века. Екатеринбург: 1996. С. 217– 245.
- Лейдерман Н. Л. Движение времени и законы жанра: Жанровые закономерности развития советской прозы в 1960–70-е годы. Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1982. 255 с.
- Лейдерман Н. Л. Современная художественная проза о Великой Отечественной войне (Историко-литературный процесс и развитие жанров. 1955 – 1970): Пособие по спецкурсу. В 2 ч. Министерство просвещения РСФСР. Свердл. гос. пед. ин-т. Свердловск, 1973. 144 с.
- Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н.Современная русская литература. 1950 – 1990-е годы. В 2 тт. Т. 1: 1953 – 1968. М.: Академия, 2003. 412 с.
- Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н.Современная русская литература. 1950 – 1990-е годы. В 2 тт. Т. 2: 1968 – 1990. М.: Академия, 2003. 684 с.
- Ливанова Р. Исследование детской памяти русских писателей: дис. канд. филол. наук. Харбин. 2017. 112 с.
- Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // М.: Вопросы литературы, 1968. No 8. С. 74–87.
- Лихачёв Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2006. 416 с.
- Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. М.: Наука, 1993. С. 3–9.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 2000. 704 с.
- Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры: Кошелев, 1996. 464 с.
- Маркова Т. Н. Русская военная проза 1990 – 2000-х годов // Екатеринбург: Филологический класс, 2015. No 1 (39). С. 12–16.
- Маркова Т. Н. Художественные реконструкции Великой Отечественной войны в современной массовой литературе // Екатеринбург: Научный диалог, 2019. No 12. С. 152–160.
- Минкин А. Запись интервью Бориса Васильева. URL: https://nekrasov1979.livejournal.com/116385.html 22.06.2021.
- Моисеева В. Г. Слова «великие» и «простые» о Великой Отечественной войне: к вопросу об эволюции русской «военной» прозы второй половины XX века // Вестник Московского университета. Серия 9. М.: Филология, 2015. No 3. С. 58–72.
- Моторина А. А. Русская художественная проза XX – начала XXI века: изображение духовного состояния человека в кризисную эпоху: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Москва. 2018. 168 с.
- Некрасов В. П. В окопах Сталинграда. М.: Речь, 2018. 416 с.
- Нефагина Г. Л. Русская проза конца XX века: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2005. 166 с.
- Николина Н. Н. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2007. 268 с.
- Окунькова Е. А. Стиль современной русской прозы о войне: дис. канд. филол. наук: 10.01.01. Москва. 2010. 195 с.
- Опера «А зори здесь тихие…»: поэтическая интерпретация классики. Новость Китая. URL: http://www.chncpa.org/zxdt331/zxdtlm/yczx332/201612/t20161202163 810.shtml 22.06.2021.
- Орлова Е. И. Образ автора в литературном произведении: учеб. пособие для студентов образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (бакалавриат). М.: Флита, 2019. 113 с.
- Павлова Л. В., Романова И. В. Тема военных преступлений в современном литературном дискурсе // Смоленск: Известия Смоленского государственного университета, 2018. No 1. С. 7–28.
- Палиевский П. Роль документа в организации художественного целого // М.: Проблемы художественной формы социалистического реализма. T. 1. 1971. С. 385–421.
- Пахомов В. Б. Литература Новороссийска. Новороссийск, Издательство «Одиссей», 2021.
- Раззаков Ф. И. У войны женское лицо // Наше любимое кино… о войне. М.: Алгоритм: Эксмо, 2005. С. 366–377.
- Распутин В. Живи и помни. М.: Мартин, 2020. 256 с.
- Рогов В. Н. Примечание редактора // Пекин: Литература и искусство СССР, 1942. No 1. С. 1–3.
- Симонов К. М. Дни и ночи. М.: Эксмо, 2013. 640 с.
- Скарлыгина Е. Ю. «Книга-документ» в современной художественной прозе о войне // М.: Современная литературная критика: 70-е гг.: Сборник. 1985. С. 218–238.
- Скребнева А. В. По обе стороны войны (нравственные ценности героев произведений Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» и «В списках не значился») // Филологические науки. Вопросы, теории и практики. Тамбов: Грамота, 2008. No 2 (2). C. 118–120.
- Соколов Н. Война – это грязь. Интервью с Борисом Васильевым. 21. 12. 2009. No 46 (141) URL: https://newtimes.ru/articles/detail/13387/ 13.09.2021.
- Стаднюк И. Ф. Война. М.: Советский писатель, 1985. 624 с.
- Тагильцев А. В. «Туман войны»: образ Великой Отечественной войны в современной массовой литературе // Екатеринбург: Филологический класс, 2012. No 3 (29). С. 94–97.
- Тимофеев Л. И., Тураев С. В. Словарь литературоведческих терминов, М.: Просвещение, 1974. 509 с.
- Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. Российская академия наук. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. 2. изд. М.: Наследие, 2001. 252 с.
- Фадеев А. А. Молодая гвардия. М.: АСТ, 2021. 640 с.
- Халхарова Л. Ц. Жанр «военного дневника» в творчестве бурятских писателей // Филология: научные исследования, 2018, No 3. С. 191–197.
- Хасанова Г. Ф. Военная проза конца 1950-х – середины 1980-х гг. в контексте литературных традиций: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Орел. 2009. 211 с.
- Чалмаев В. А. На войне остаться человеком. Фронтовые страницы русской прозы 60 – 90-х годов: В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. М.: Издательство МГУ, 1998. 120 с.
- Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1949. 180 с.
- Чупринин С. И. Русская литература сегодня: жизнь по понятиям. М.: Время, 2007. 768 с.
- Шарипова М. А. Женские образы в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Худжанд: Гуманитарные науки, 2016. No. 4. С. 51–55.
- Широкова И. А. Образ автора в художественном произведении: отражение отражаемого // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск: 2014. No 23 (352). С. 103–106.
- Шолохов М. А. Они сражались за Родину. М.: Вече, 2005. 400 с.
- Шолохов М. А. Судьба человека. Рассказы. М.: Стрекоза, 2018. 288 с.
- Щербаков К. А. Разговор о фильме «Завтра была война» продолжает режиссер Юрий Кара // М.: Искусство кино, 1988. No 6. С. 38–40.
- Юрина Т. И. Новороссийское противостояние 1942-1943 гг. Краснодар, 2008.
[1] Левакин Н. Н. Художественная рецепция как литературоведческое понятие (к вопросу понимания термина) // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского, № 27. 2012. С. 309.
[2] Карнюшин В. А. Проза Бориса Васильева о фронтовиках после войны, 1970–80-е гг.: дис. канд. филол. наук: 10.01.01. Смоленск. 2000. С. 25.
[3] Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение. М.: Наука, 1983.
[4] Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975; Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000.
[5] Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа. 1989.
[6] Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. М.: Наука, 1979.
[7] Лихачёв Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2006.
[8] Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1996.
[9] Топер П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. Российская академия наук. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. 2. изд. М.: Наследие, 2001.
[10] Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. 1950–1990-е годы: учеб. пособие. В 2 тт. М.: Академия, 2003.
[11] Нефагина Г. Л. Русская проза конца XX века: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2005.
[12] Добренко Е. А. Формирование советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Академический проект, 1999.
[13] Аристов Д. В. Русская батальная проза 2000-х годов: традиции и трансформации: дис. канд. филол. наук: 10.01.01. Пермь. 2013.
[14] Волкова В. Б. Концептосфера современной военной прозы: дис. д-ра филол. наук: 10.01.01. Екатеринбург. 2014.
[15] Горбачев А. Ю. Военная тема в прозе 1940 – 1990-х годов. Минск: БГУ, 2015.
[16] Маркова Т. Н. Русская военная проза 1990 – 2000-х годов // Екатеринбург: Филологический класс, 2015. No 1 (39). С. 12–16; Маркова Т. Н. Художественные реконструкции Великой Отечественной войны в современной массовой литературе // Екатеринбург: Научный диалог, 2019. No 12. С. 152–160.
[17] Моисеева В. Г. Слова «великие» и «простые» о Великой Отечественной войне: к вопросу об эволюции русской «военной» прозы второй половины XX века // М.: Вестник Московского университета. Серия 9. Филология, 2015. No 3. С. 58–72.
[18] Хасанова Г. Ф. Военная проза конца 1950-х – середины 1980-х гг. в контексте литературных традиций: дис. канд. филол. наук: 10.01.01. Орел. 2009.
[19] Конев В. П. Советская художественная культура периода 1930–80-х годов XX века: теоретико- исторический анализ: дис. д-ра культурологии: 24.00.01. Кемерово. 2004.
[20] Карнюшин В. А. Проза Бориса Васильева о фронтовиках после войны, 1970–80-е гг.: дис. канд. филол. наук: 10.01.01. Смоленск. 2000.
[21] Горбачев А. Ю. Военная тема в прозе 1940 – 1990-х годов. Минск: БГУ, 2015. С. 34.
[22] Карнюшин В. А. Проза Бориса Васильева о фронтовиках после войны (70 – 80-е гг.): дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. Смоленск. 2000. С. 32.
[23] Литература и поэзия военных лет в годы Великой Отечественной войны.
[24] Васильев Б. Л. Чувство ответственности. Театр. 1980. No 2 // Современные советские писатели говорят о творчестве. Институт советской литературы Пекинского педагогического университета. Пекин: Издательство Пекинского педагогического университета, 1984. С. 235.
[25] Минкин А. Запись интервью Бориса Васильева. 1979 // URL: https://nekrasov1979.livejournal.com/116385.html, 13. 09. 2021.
[26] Чэнь Цзинъюн. История советских антифашистских военных романов. Нанкин: Нанкинский университет, 1992. С. 195.
[27] Васильев Б. Л. Тема важнее сюжета. В мире книг. 1979. No 5. // Современные советские писатели говорят о творчестве. Институт советской литературы Пекинского педагогического университета. Пекин: Издательство Пекинского педагогического университета, 1984. С. 226.
[28] Колотилина Е. А. Художественное портретирование женских образов в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» // Новосибирск: Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания, 2015. No. 27. С. 74.
[29] Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок (16 ноября 1880, Санкт-Петербург, Российская империя — 7 августа 1921, Петроград, РСФСР) — русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик. Классик русской литературы XX столетия, один из крупнейших представителей русского символизма.
[30] Васильев Б. Л. Тема важнее сюжета. В мире книг. 1979. No 5. // Современные советские писатели говорят о творчестве. Институт советской литературы Пекинского педагогического университета. Издательство Пекинского педагогического университета. 1984. С. 223.
[31] Колотилина Е. А. Художественное портретирование женских образов в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» //Новосибирск: Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2015.No 27. С. 75.
[32] Колотилина Е. А. Художественное портретирование женских образов в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» // Новосибирск: Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2015. No 27. С. 78.
[33] Бочаров А. Г. Требовательная любовь: концепция личности в современной советской прозе. М.: Художественная литература, 1977. С. 368.
[34] Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 332.
[35] Лю Нин. Интервью с советским писателем Б. Васильевым // Пекин: Советская литература, 1986. No 1. С. 53.
[36] Бочаров А. Г. Человек и война: Идеи социалистического гуманизма в послевоенной прозе о войне. – 2-е изд., доп. М.: Советский писатель, 1978. С. 437.
[37] Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1949. С. 30.
[38] Юрин Т. К. Эстетика смерти. М.: Издательство «ДОМ», 1998. С. 145–146.
[39] «Города-герои» — почётное звание, которого были удостоены 12 городов бывшего СССР, оказавших наибольшее сопротивление немецко-фашистским захватчикам и их союзникам во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
[40] Серге́й Серге́евич Смирно́в (1915-1976) — советский писатель, историк, радио- и телеведущий, общественный деятель. Лауреат Ленинской премии (1965).
[41] Крупнейшее и старейшее советское / российское информационное агентство.
[42] Г. Бакланов «Мертвые сраму не имут», 1961; К. Воробьев «Убиты под Москвой», 1963; В. Быков «Журавлиный крик», 1960, «Фронтовая страница», 1963.
[43] «Советский исторический роман», 1980.
[44] «Русский советский исторический роман», 1980.
[45] Принципы историзма в изображении характера, 1978.
[46] Динамика жанра: Особенное и общее в опыте современного романа, 1989.
[47] Орлова Е. И. Образ автора в литературном произведении: учебное пособие. М.: Флита, 2019. С. 5.
[48] Лихачев Р. В. О времени и пространстве в художественном тексте. М. Издательство «Знание», 1967. Стр. 74–79.
[49] Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры: Кошелев, 1996. Стр. 267.
[50] Чалмаев В. А. На войне остаться человеком. Фронтовые страницы русской прозы 60 – 90-х годов: В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. М.: Издательство МГУ, 1998. С. 83.
[51] Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры: Кошелев, 1996. С. 239.
[52] Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2000. С. 38.
[53] Широкова И. А. Образ автора в художественном произведении: отражение отражаемого // Челябинск: Вестник Челябинского государственного университета, 2014. No 23 (352). С. 104.
[54] Там же.
[55] Кожевников М. Я. Почему я хочу писать // М.: Мир, 2015. No 1. С. 78.
[56] Безрукова А. В. Литературный словарь. М.: Луч, 2007.
[57] Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000. С. 187.
[58] Лихачев Д. С. Внутренний мир художественного произведения // М.: Вопросы литературы. 1968, No 8. С. 76–77.
[59] Веденкова Е. С. Исследование художественного пространства-времени: вопросы методологии // Тамбов: Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, No 12 (104), 2011, С. 281.
[60] Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000. С. 189.
[61] Николина Н. Н. Филологический анализ текста. М.: Академия, 2007. С. 256.
[62] Кандрашкина О. О. Категории пространства, времени и хронотопа в художественном произведении и языковые средства их выражения // Самара: Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2011. No 13. С. 1217.
[63] Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. С. 419.
[64] Кандрашкина О. О. Категории пространства, времени и хронотопа в художественном произведении и языковые средства их выражения // Самара: Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2011. No 13. С. 1218.
[65] Ван Аньган. Сравнение некоторых влияний и связей в военной литературе между Советским Союзом и Китаем // Современное направление мысли в литературе и искусстве, 1984. No 5. С. 112.
[66] Горбачев А. Ю. Военная тема в прозе 1940 – 1990-х годов. Минск: БГУ, 2015. С. 34.
[67] Карнюшин В. А. Проза Бориса Васильева о фронтовиках после войны (70 – 80-е гг.): дис. канд. филол. наук: 10.01.01. Смоленск. 2000. С. 32.